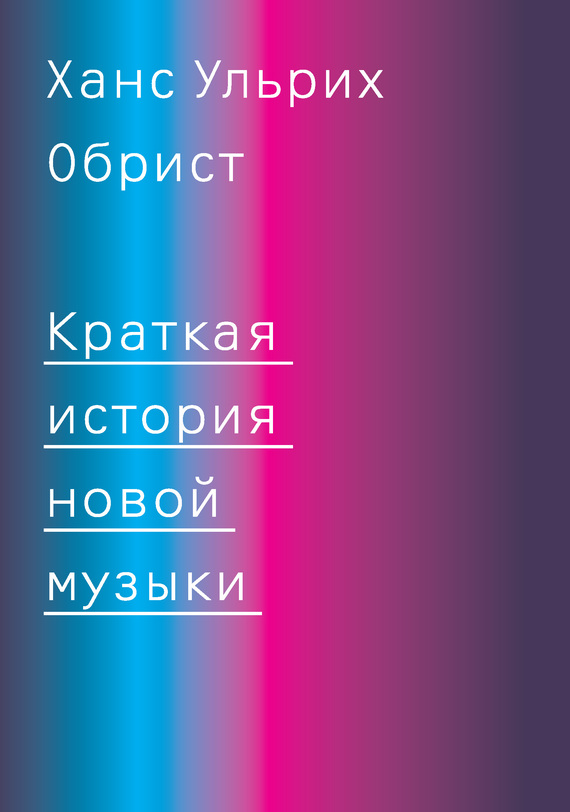
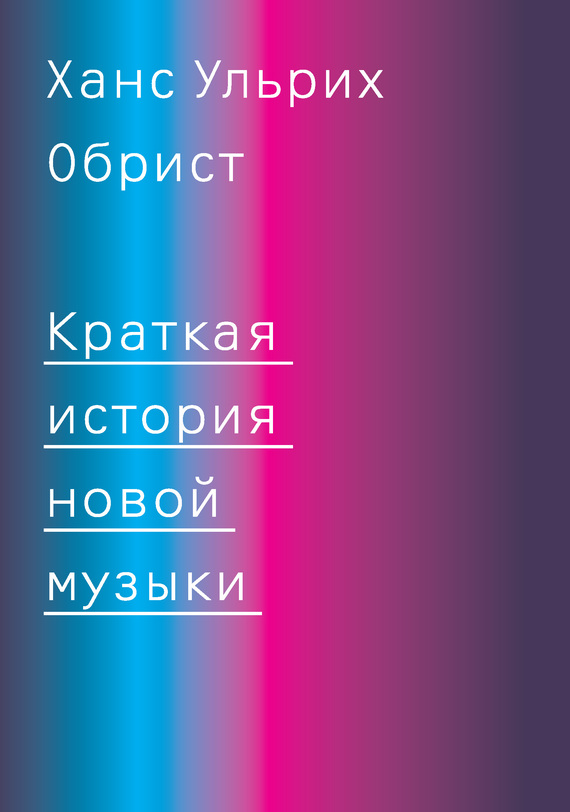
Hans Ulrich Obrist
A Brief History of New Music
© Hans Ulrich Obrist and JPR // Ringier Kunstverlag and Les presses du réel, Zurich, 2013
© Светлана Кузнецова, перевод, 2015
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2015
© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС» / IRIS Foundation, 2015
Рождение электроакустической музыки
– Янис Ксенакис и Франсуаза Ксенакис
– Йоко Оно
Данная книга, как и ее предшественница с созвучным названием («Краткая история кураторства»), составлена из устных рассказов. Все интервью брал ее автор – иногда совместно с Филиппом Паррено – записывал, транскрибировал их и редактировал. Эти тексты отмечены спецификой подобного рода повествования: заминками и признаниями, неоднозначными местами и неожиданно яркими откровениями; все беседы связаны меж собой: они перекликаются, одна дополняет недостающую информацию в другой, или, наоборот, высказанная мысль противоречит звучавшей ранее; перед каждой составляющей этой подборки стоит одна цель: сделать их совокупность чем-то большим, нежели просто суммой частей.
Такая «записанная» история, озвученная самими родоначальниками явлений, чьи контуры она призвана обрисовать, имеет еще два примечательных свойства, играющих на руку методике автора, ведь он не только выступает в роли великолепного проводника(в том смысле, в каком это слово употреблял Беньямин Вальтер), но и обладает талантом распространять информацию и идеи. Он одновременно увеличивает количество посланий и тех, кому они адресованы, постоянно преодолевая все препоны на пути потока культурного обмена и оставаясь его двигателем на протяжении уже нескольких десятилетий.
Таким образом, данная книга – не столько краткая история новейшей авангардной, или экспериментальной, музыки, сколько путеводитель по ее важнейшим изобретениям. По сути, автор следует векторам двух утверждений: во-первых, появление на сцене электроакустической музыки совершенно преобразило процесс музыкального творчества, которое – и это уже во-вторых, – неразрывно связано и с другими видами искусства (изобразительным искусством, а также архитектурой, литературой, кино, танцами и т. д.). Эта книга раскрывает диалектическую связь между технологическими (в области и звука, и оборудования) и художественными инновациями в период между 1950-ми и 1980-ми годами; рассказывает, как понятие музыкальной нотации избавилось от академического облика и стало порой либо вовсе неуместным, либо превратилось в самостоятельную художественную форму; как настолько разные музыканты, как те, что собраны здесь, воспринимали «реальный» звук – сыгранный вживую или записанный, в оригинальном исполнении или воспроизведенный; как преобразилось понятие «студии» в послевоенные десятилетия и какими были величайшие недостигнутые музыкальные утопии – от музыки для музеев до специально спроектированных концертных площадок.
Кроме того, мы узнаем, как танцевальный театр Джадсона объединился в междисциплинарных экспериментах с Дармштадтскими курсами, Центром современной музыки колледжа Миллс и студиями ORTF и WDR (ORTF – Радиовещание и телевидение Франции и WDR – Студия электронной музыки Радио Западной Германии); нам открываются неожиданные пересечения экспериментальной музыки, кино, поп-индустрии и телевидения; мы встречаем не только Оливье Мессиана, Густава Малера, Арнольда Шенберга, Эдгара Вареза, Джона Кейджа и Ла Монте Янга, но и Марселя Дюшана, Мерса Каннингема, Роберта Раушенберга, Ле Корбюзье, Глаубера Роша, Джорджа Брехта и Мишеля Бютора; мы находим схожие места в партитурах художников движения Флуксус и сочинениях современных музыкантов; наконец, мы становимся участниками ряда откровений, признаний и наблюдений, которые обогатят знания поклонников каждого из музыкантов.
Можно с уверенностью утверждать, что эта книга станет только первым шагом автора к исследованию музыкальных форм, возникших на Западе с 1950-х годов, и их взаимодействий с авангардными явлениями в области изобразительного искусства, литературы, архитектуры и кино. И что тот архив ключевых фигур XX века, который собирает Ханс Ульрих Обрист, проложит дорогу последующим трудам, последующим интерпретациям и исследованиям путем сопоставления новых звеньев, вплетения новых связей и развития новых областей знаний. Пока Обрист в процессе работы над источником знаний для осмысления нашего времени будущими поколениями, эта картина имеет непостоянную форму и складывается из фрагментов, как мозаика, – в ней нет внушительных зданий, разделений и границ. Скорее, есть незакрашенные пятна и сгустки краски…
Лионель Бовье
Родился в 1928 году в городе Медрат близ Кельна, Германия. Умер в 2007 году в Кюртене, Германия.
Карлхайнц Штокхаузен известен как один из самых важных и противоречивых композиторов XX века. Он получил признание благодаря своим прогрессивным идеям в области серийной техники композиции и электронной музыки, экспериментам с графической записью партитур и пространственным размещением источников звука – например, в его выдающемся произведении для четырехканальной акустической системы «Gesang Der Jünglinge» («Песнь отроков», 1955–1956). Штокхаузен написал более 375 самостоятельных произведений. Грандиозна его опера «Licht» («Свет», 1977–2003) с подзаголовком «Семь дней недели». Она состоит из семи частей, каждая из которых носит название дня недели, и, как говорил сам автор, сродни «вечной спирали» без начала и конца.
Штокхаузен получил образование в Кельнской высшей школе музыки и Университете Кельна, а позже учился у композитора Оливье Мессиана в Париже. Также он изучал фонетику, акустику и теорию информации совместно с физиком Вернером Мейер-Эпплером в Университете Бонна.
Данное интервью было взято в 2004 году в образовательном центре Штокхаузена в Кюртене. Опубликовано в журнале «Domus» (Milan, 2004. № 876. P. 80–83).
ХУО: Многие архитекторы и художники интересуются тем, как вы в своих работах соотносите время со светом. Над оперой «Свет», которую собирались поставить в Руре, вы работали почти 25 лет. Можете рассказать об этом 25-летнем творческом процессе? Ведь это все-таки очень большой срок для написания одного произведения.
КШ: Я писал электронную композицию «Песнь отроков» в Студии электронной музыки Западной Германии (WDR) два года: с 1954-го по 1956-й. Все это время я по-разному комбинировал голос юноши с электронными звуками и размножал варианты сочетаний. В итоге я два года работал над 14 минутами музыки. По восемь-девять часов в день на протяжении трех или четырех месяцев я писал мой первый электронный этюд «Studie I» («Этюд I», 1953), который длится 9 минут 50 секунд. «Studie II» идет всего три минуты, но и его создание заняло несколько месяцев. Последующие работы требовали все больше и больше времени. «Sirius» («Сириус», 1975–1977) – 96 минут электронной музыки с вокальными партиями для четырех солистов – я писал почти три года. Премьеры его частей прошли отдельно. Первая 45-минутная секция была впервые представлена в Вашингтоне, а последующие сыграны в Токио, Экс-ан-Провансе, Кельне и Бонне, пока, наконец, композиция не была сыграна целиком. Отдельные произведения, вроде «Инори (Поклонение) для одного (двух) солистов и оркестра» («Inori», 1973–1974), я, как правило, писал в течение года. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что, наметив общий план «Света», я выделил на создание каждой его части по четыре года, а всего частей семь. Я бы скорее сказал, просто поразительно, что я уложился в 25 лет. Если учесть все еще не представленную заключительную часть, «Licht-Bilder» («Образы света»), то это все 27 лет. Вместе с подготовительным этапом получилось трижды по девять или почти четырежды по семь лет. Важно накопить опыт, чтобы представлять, сколько займет работа над тем или иным произведением. В 1960-х я много раз говорил, что не хочу больше писать отдельные композиции. По правде сказать, мне стала чужда эта традиция сочинения музыки; я считаю, что в идеале нужно посвятить всю жизнь одному произведению. Со временем меня все больше увлекал такой подход: я развиваю произведение из зародыша и в нескольких частях раскрываю все формы, которые оно может принять. В 1956–1957 годах многие мои соратники на музыкальном поприще спрашивали у меня с большой долей критики и иронии: почему я целых три года работал над «Gruppen Fur Drei Orchester» («Группами для трех оркестров») и как вышло, что они длятся всего 25 минут? Это было очень необычно. Мои знакомые композиторы все еще пишут произведения из шести, семи, восьми или девяти частей, которые представляют собой сюиты, очевидно различные по характеру и техническому воплощению. Но передо мной уже на ранних этапах творчества стояла иная задача: при помощи музыки создать пространство, в котором могли бы найти место и взаимодействовать между собой любые идеи и материалы. Другими словами, ты не просто делишь произведения на куски и, отрезая, начинаешь в другом месте, а постоянно продолжаешь работать над тем, что однажды начал.
ХУО: Можно ли сказать, что к созданию «Света» вас подтолкнул Шри Ауробиндо?[1]
КШ: Определенно. Еще в 1970-х годах я писал произведения, в центре которых стоял конфликт между Михаилом, мыслителем, указующим путь вселенной, и Люцифером, антагонистом, отказавшимся от Бога, потому что именно этот конфликт традиционно порождал и порождает полемику и большую часть произведений искусства. Я мечтал написать великое произведение, которое родилось бы в противостоянии этих двух космических сил. Книгу о Шри Ауробиндо мне дал студент моего семинара по композиции, когда я преподавал в Калифорнии в 1966 году. В 1971 году на премьере «Hymnen» («Гимнов для оркестра») в нью-йоркском Зале филармонии я дирижировал Нью-йоркским симфоническим оркестром и четырьмя солистами, приехавшими со мной из Германии. Сразу после концерта какой-то странного вида человек стал с большим воодушевлением предлагать мне одну книгу («Книга Урантии»). Меня смутили его громкие возгласы, и я провел его в гримерку. Там он за девять долларов продал мне книгу и наедине сказал, что на меня возложена миссия отобрать из всей музыки, созданной на этой планете, ту, что будут транслировать в космос через мощнейший передатчик где-то в Андах. Я отказался от предложения; у меня на ближайшее время хватало интересных проектов, и я посоветовал ему поискать кого-то еще. Книга после этого пылилась у меня в шкафу до 1974 года. Потом я вдруг вспомнил о ней и прочел первую главу о сотворении космоса. Автор утверждал, что служит лишь медиумом для записи текста. В книге было много конкретных имен и дат, так что во мне проснулся живой интерес. Еще в ней была очень важная глава о том, как святой Михаил воплотился в Христа. Меня крайне увлекла эта теория. Я рос в Альтенберге, и фигура святого Михаила играла ключевую роль в моих юношеских воспоминаниях. Я всегда в соборе молился святому Михаилу и в 1970-х написал много произведений, связующих Михаила и Иисуса Христа. В этом смысле книга была очень интересна. Остальное, что происходит в «Свете», – это моя личная интерпретация отношений между тремя космическими сущностями: Михаил – Ева – Люцифер, которые, по моему убеждению, играют определяющую роль в наших жизнях. Не в том смысле, что мы полностью зависим от них и индивидуум не обладает личной свободой, – они скорее направляют нас. Даже сейчас я каждый день молюсь святому Михаилу и прошу его даровать гармонию подвластной ему вселенной, обуздать ее чудовищные конфликты, особенно на нашей планете. Таковы мои мысли о Земле в целом, а технически мои музыкальные нововведения рождались на основе накопленного опыта. Мои ранние произведения 1950–1951 годов помогли формированию идеи серийной музыки. Она явилась результатом кропотливой работы и положила начало нашей традиции, и, на мой взгляд, такое было возможно только в Кельне. Из серийной музыки выросла интуитивная музыка, которая подразумевает свободное, бессистемное сочинение. Затем родилась «формульная композиция». Но еще до этого я написал два очень важных произведения: «Pole» («Поляки») для двух исполнителей и «Expo» («Экспо») для трех исполнителей. В 1977 году я создал то, что называется «супер-формулой»[2], на которой основана вся опера «Свет».
ХУО: На прошлой неделе я беседовал с Франсуа Бейлем. Он рассказывал мне о 1952 годе, когда парижские музыкальные открытия настолько будоражили воображение, что он просто не мог спать. Он говорил, что всегда считал вас важнейшим современным композитором. Расскажите о том, как для вас все началось.
КШ: Я учился играть на фортепиано в Музыкальной академии, и меня увлекало все, что связано с новыми методами написания музыки. В Музыкальной академии (Высшая музыкальная школа, Кельн) читали лекции композиторы, работавшие в технике додекафонии, и я с интересом ходил на эти лекции. Герберт Аймерт, критик из Кельна, посоветовал мне съездить в Дармштадт[3]. Я познакомился с ним, когда выступал в одном музыкальном театре. Он спросил, чем я занимаюсь, и я сказал, что уже год работаю над диссертацией о «Сонате для двух фортепиано и перкуссии» (1937) Белы Бартока. Я исследовал эту сонату досконально, как физик изучает свойства материала на атомном уровне. Мне требовалось уяснить до мельчайших деталей, как Барток написал свое произведение. Через него я познакомился с додекафонией. И Герберт Аймерт сказал: «Тебе определенно нужно сделать выпуск вечерней передачи о своей диссертации». Потом он спросил, пишу ли я что-то сам. Я ответил, что да, и показал ему «Kreuzspiel» («Перекрестную игру»), которой я дирижировал в декабре 1951 года во время записи на радио. Так началась иная музыка. До этого я писал скорее некую экспрессивную музыку, четко построенную по принципам додекафонии, например «Sonatine» для скрипки и фортепиано (1951), или 12-тоновый «Chorale» (1950), но это уже переходная композиция от традиционной эмоциональной музыки, какую писал, например, мой преподаватель Франк Мартин[4]. Бывало, я наблюдал за тем, как он пишет. Скажем, когда он сочинял «Golgothe» («Голгофу», 1945–1948), он садился за фортепиано, играл то, что сочинил до определенного момента, затем несколько секунд импровизировал и таким образом придумывал еще несколько тактов. Я сам написал одну композицию таким способом. В то время я работал на автомобильном заводе и иногда выкраивал несколько свободных часов. Тогда я сочинил «Drei Lieder» («Три песни для голоса- альта и камерного оркестра», 1950). Да, эта работа написана в технике додекафонии, но она, как и большая часть традиционной музыки, служила формой выражения чувств самого композитора. Я навсегда оставил такую музыку, меня в первую очередь волновала новая музыка и каким образом она создается при помощи новых методов композиторства.
ХУО: Тогда наступил переломный момент?
КШ: После «Перекрестной игры» я стремился всем своим творчеством, от работы к работе, воплощать в музыке то, что мной не изведано в самом себе. Каждая задуманная мной форма для очередной композиции давала мне простор для открытий и новой музыки. Так остается и по сей день.
ХУО: Еще в раннем возрасте вы начали писать стихи. Можете рассказать о своих отношениях с литературой и о том, как вы от нее перешли к музыке? Меня особенно интересует диалог с Германом Гессе. Вы упомянули «Игру в бисер» (1943) и сказали, что эта книга сильно повлияла на ваше восприятие музыкальной нотации.
КШ: Мне кажется, Герман Гессе был знаком с додекафонией, как и Томас Манн, который в своем «Докторе Фаустусе» (1947) упоминал ранние 12- тоновые работы Арнольда Шенберга. В «Игре в бисер», вне всяких сомнений, есть отсылка к методу использования серийной техники при композиции музыкальных фигур, голосов, компонентов и интервалов – к тому факту, что из весьма ограниченного набора элементов по правилам «Игры в бисер» можно составлять бесконечное количество форм. К сожалению, в книге нет конкретного описания правил: чисел, характеристик, а лишь количество компонентов и та степень, в какой эта игра приближается к искусству. Тогда книга представляла бы реальный интерес. Не поверю, что гессевская игра имеет что-то общее с биологической «игрой в бисер», которой пользуется нынешняя генная инженерия для создания новых организмов. Гессе писал именно об абстрактном искусстве, числах и характеристиках. Позже мы использовали эти термины как параметры, чему я научился у физика [Вернера] Мейер-Эпплера. Я считаю, Гессе не имел в виду ничего более.
ХУО: Ваши искания тесно связаны с наукой. Я читал о ваших совместных исследованиях с Мейер-Эпплером. Связь науки и искусства, которую изучали, например, Дюшан и [Анри] Пуанкаре или Йона Фридман и [Вернер] Гейзенберг, – одна из основных тем моего цикла интервью. Не могли бы вы рассказать, какую роль наука играет в вашем творчестве?
КШ: После нескольких месяцев работы в Париже в студии Пьера Шеффера «Club d'Essai»[5], когда мои труды увенчались созданием этюда «Étude concrète» [1952, первое электроакустическое произведение Штокхаузена для магнитной пленки], в мае 1953 года я начал работать в Студии электронной музыки Радио Западной Германии. Студия на тот момент еще только формировалась, так что я стал свидетелем ее зарождения. Я размышлял над своими первыми электронными этюдами, но скорее над вопросами композиции, нежели над конкретным звучанием – насчет последнего у меня пока не было никаких идей. Тогда я стал посещать семинар Мейера-Эпплера по фонетике в Университете Бонна.
ХУО: Получается, вы прошли курс фонетики уже после парижского опыта?
КШ: Да, в Париже я больше занимался практической работой. Я ходил в Музей человека и записывал через микрофон звучание различных экзотических инструментов. Затем шел в студию конкретной музыки [«Club d'Essai»] и пытался выявить разницу между тембрами при помощи фильтров[6]. Это был мой первый практический опыт акустического анализа. На курсах фонетики в Университете Бонна я научился транскрибировать незнакомые языки с точки зрения акустики. Я узнал, как использовать нотацию, фонетическую транскрипцию, как фиксировать различные звуки. Исследование природы звука по сей день остается важной частью моей жизни. Конечно, именно об этом говорил Франсуа Бейль. Едва ли многие из знакомых мне композиторов и бывших учеников разбирались в свойствах звука. Сама идея того, что музыку можно не только петь и играть на уже существующих инструментах, но создавать собственные звуки для каждой новой композиции, что можно овладеть процессом синтеза звука, была совершенно нова и революционна. Она открывала неизведанные горизонты для всей западной музыки. Как следствие, и что очень важно, вокальная или инструментальная музыка перестали быть единственным инструментом для создания или восприятия классической музыки. Теперь звуки можно было обрабатывать, преобразовывать, переупорядочивать. Ни одно из моих произведений пространственной музыки – четырех- или многоканальных – еще не нашло своего идеального исполнения в реальном пространстве. Проекты специальных площадок могли бы заинтересовать некоторых архитекторов, но в мире заведено иначе. За последние 60 лет архитекторы в основном только воссоздавали традиционные концертные залы.
ХУО: Я хотел бы поговорить с вами о важности архитектуры в вашем творчестве и, возможно, затронуть музейную тему. Вчера я был в парижском парке Ла-Виллет на выставке «Пространственная одиссея: пространственная музыка с 1950 года» [2004], где представлены помещения и пространства, созданные архитекторами для музыки начиная с 1950-х годов, например павильон «Филипс» и концертный зал Ренцо Пиано для Луиджи Ноно. Вы сами в Осаке занимались проектированием помещения для исполнения музыки вместе с Фрицем Борнеманном[7] [Сферический концертный зал для Всемирной выставки в Осаке в 1970 году, первый в мире сферический концертный зал[8]]. Расскажите, пожалуйста, об этой совместной работе.
КШ: Тогдашний министр экономики Западной Германии, Карл Шиллер, захотел произвести фурор на Всемирной выставке в Осаке 1970 года. Комитет предложил послать в Осаку солиста-клавесиниста, но потом люди из Министерства экономики предложили мою кандидатуру. Мы встретились с Фрицем Борнеманном в Дармштадте. Он привез с собой чертежи и макет. Макет, по правде сказать, имел форму обыкновенной коробки. Я сказал ему, что еще с 1956 года писал исследовательские статьи и вел дискуссии с архитекторами о принципах проектирования залов и пространств для полного окружения звуком. Сферическое помещение я описал еще в эссе 1956 года «Music im Raum» [«Музыка в пространстве», из книги «Texte zur Musik». Т. I. «Музыкальный фонд Штокхаузена», Кюртен, 1958]. Я сказал Борнеманну, что ему придется строить сферический зал, хотя в то время все скептически относились к этой идее, потому что отражение волн якобы искажает звук. Но это, по сути, совершенно неважно. Главное – правильно подобрать материалы. Борнеманн уже через несколько часов отказался от всех своих заготовок и согласился с моим предложением. Я пообещал написать произведение специально для этого зала. Слушатели, сказал я, должны сидеть «на экваторе», чтобы звук окружал их со всех сторон и даже снизу, также нужна специальная техника для регулировки направления звука. И такой концертный зал в итоге был построен.
ХУО: Он воплощал отказ от традиционного представления о концертных залах.
КШ: Классические концертные залы рассчитаны на монофоническую музыку, которая распространяется в одном направлении. До возникновения этой классической традиции в соборах исполняли церковную музыку, и людям казалось, что с верхних галерей звучит пение ангелов и раскатывается под сводами. Звук создавал ощущение, будто ты на небесах. Такое возможно было только с медленной музыкой. Музыка приближала тебя к раю во время молитвы. Затем рай опускался все ближе к земле, пока ты, наконец, не видел самих музыкантов. Вслед за возрождением греческой драмы при дворе Медичи классическую музыку стали исполнять в небольших комнатах на 40–50 человек. Потом появились сначала музыкальные залы для среднего класса и в конце концов концертные залы, которые в наши дни могут вмещать до 2000 человек. Тем не менее до сих пор преобладает монофоническое восприятие музыки. Едва ли можно добиться полифонии, попытавшись разнести отдельные направления звука в рамках единого монофонического целого. В архитектуре решения этой проблемы пока не найдено. Со временем концертные залы становятся все меньше приспособлены для восприятия полифонической музыки.
ХУО: Не могли бы вы больше рассказать о полифонических пространствах? Ведь вы спроектировали множество концертных залов, которые так и не были построены. Например, вы писали о восьмиугольном, почти круглом, помещении, где слушатели могли бы ходить, а не сидеть на одном месте. Каким должно быть устройство полифонического зала?
КШ: Главное, чтобы слушатели определенного произведения пространственной музыки имели возможность услышать его с разных точек. У меня было несколько идей на этот счет. К примеру, установить сиденья на специальной платформе и легко регулировать их направление при помощи гидравлической системы и механизма под полом платформы. Подобная задумка была реализована еще в начале 1950-х, в одном из помещений Зала Бетховена в Бонне, где дают концерты традиционной музыки. После концерта пол можно опустить и за 3–4 минуты убрать все кресла, затем пол снова поднимается и помещение превращается в бальный зал. Есть прекрасный проект зала с круговой галереей по периметру с дверями, через которые заходят (и выходят) музыканты. Динамики там хорошо было бы разместить по кругу на разных уровнях, до самого зенита, как мы сделали на выставке в Осаке. Верхние желательно расположить так, чтобы музыка доносилась с максимально возможной высоты. Я написал несколько «октофонических» произведений, в которых звук распространяется вертикально и по диагонали от потолка к полу, и наоборот, и по всевозможным спиральным траекториям, благодаря четырем парам динамиков в углах под потолком на высоте около 12 метров и четырем парам динамиков в нижних углах на высоте порядка полутора метров. Такое расположение позволяет исполнять октофонические произведения, в которых направление звука прописано с такой же точностью, как высота и длительность нот, громкость и тембры. Скорость и направленность звука играют очень важную роль в такой музыке. Если для нее нет подходящих залов, значит, ее просто нельзя услышать. Я верю, что однажды музыка будет определять архитектуру, а не как то было вплоть до настоящего времени, когда ты вынужден писать музыку для тех залов, которые строят архитекторы.
ХУО: Та же проблема касается музеев. Экспонаты должны определять форму музеев, а не подстраиваться под них.
КШ: Это все подразумевает наличие энтузиазма у власть имущих – администрации города, членов политических партий, – а не только у тех, кто по служебным обязанностям отвечает за культуру, чего мы нынче решительно не наблюдаем. Я не знаю ни единого политика, которого хоть немного интересовала бы серьезная музыка. Очевидно, заниматься развитием музыки никто не имеет желания.
Я прожил уже немало и за долгие годы дал огромное количество интервью и написал множество статей о практических условиях, в которых было бы целесообразно исполнять музыку. С конкретными описаниями расположения мест для слушателей и источников звука. Но это не возымело никакого эффекта, поскольку ни один известный архитектор так и не взялся воплотить мои замыслы. Борнеманн и тот совсем недавно спроектировал концертный зал в Берлине, который не приспособлен даже для стереофонического звучания [Немецкая опера, Берлин].
ХУО: В Осаке вы еще сделали в зале звездное небо с динамиками-кометами, установленными вокруг платформ для посетителей.
КШ: Во всем зрительном зале было звездное небо с программным управлением. Снаружи здание напоминало планету – голубая сфера, которая выделялась на фоне остальных павильонов. Каждый день мы давали до 11 концертов моих произведений. В общей сложности выступал 21 музыкант, каждый из которых выходил на сцену один или два раза в день. Для меня это была уникальная возможность, какой мне с тех пор больше не выпадало. Базовое пространство для концерта представляло собой плоскую платформу с источниками звука вокруг, сверху и снизу кресел аудитории. На свете и правда есть композиции, которые просто необходимо воспроизводить посредством нескольких каналов. Они дают публике совершенно особый опыт восприятия, который не имеет ничего общего с процессом прослушивания музыки в обычном концертном зале.
ХУО: Вы наглядно продемонстрировали это, когда переделали Зал Бетховена в Бонне. Музыка [«Fresco. Wandklänge zur Meditation» / «Фреско. Звуки стен для медитации», 1969][9] словно превратилась в музейную выставку, где можно переходить от экспоната к экспонату.
КШ: Традиционно принято играть концерт по определенной программе. Слушатели приходят на нее, и только. В Вене есть дома музыки, в которых одновременно проходят концерты камерных оркестров в малых залах и симфонических – в больших. Я же в Бонне старался наполнить живой и проигрываемой через динамики музыкой все доступные помещения: репетиционную комнату, главный зал, фойе. Я реализовал идею «концерта-прогулки» («Wandelkonzert»). В программе так и значилось. Публика могла прогуливаться по фойе и слушать музыку, иногда заходить в залы и слушать программу там. В других залах тем временем выступали как солисты, так и целые ансамбли. Такая форма открытого действия, когда зритель может выбирать, на мой взгляд, крайне удачна, и ее с тем же успехом можно применять на выставках. Мне кажется, в будущем станет привычной практикой одновременно предоставлять публике выбор программ, концертов исполнителей и пространственных композиций. Нынешний кризис индустрии звукозаписи может привести к подъему совершенно иной музыкальной культуры. Например, в концертных залах больших городов музыку будут исполнять круглые сутки. Я предлагал нескольким немецким городам, в частности Кельну и Мюнхену, проекты, аналогичные программе в Осаке. В то время я задумывал построить концертный зал на крыше крупного универмага, но для организаторов стоимость реализации проекта в миллион марок в год оказалась слишком высокой. Посетители универмага могли бы время от времени заходить в комнату, где играла бы интересная и необычная музыка, но им не дали такой возможности. Сейчас я снова столкнулся с подобной проблемой. Работа над «Светом» закончена, и у меня часто спрашивают, каким образом его следует исполнять вживую. Я отвечаю: «Желательно в семи залах на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга, но в одном здании». «Свет» состоит из семи композиций, по одной на день недели, и каждая несет свою тему, свою музыку, требует особых исполнителей и длится разное время. В идеале слушатель должен иметь возможность приобщаться к частям «Света» так, как он сам пожелает.
ХУО: Как будто он в музее?
КШ: Именно. «Свет» состоит из семи частей, которые соотносятся по-разному: как семь элементов, семь цветов. Она разделены на воду, землю, воздух, гелий, спокойное пламя свечи, всепожирающий огонь, спектральный свет – иными словами, на разные области человеческого восприятия, которые должны смешиваться друг с другом в семи залах. Так, мне пришло в голову, что в зале «Понедельник» для зрителей можно установить фонтаны, во «Вторнике» обустроить музей земли, железа и оружия – в общем, добавить в каждый зал некий информационный элемент. Нужно сделать так, чтобы людям это было очень интересно с образовательной точки зрения. Использовать принцип Диснейленда, только с миссией более интеллектуальной, нежели просто развлечение. Я ничего не имею против юмора, однако важно, чтобы люди не только смеялись, но могли испытать трепет. И, главное, почувствовать тягу к новым возможностям в их жизни. Я хотел бы, чтоб такой комплекс воспитывал мужчин и женщин будущего.
ХУО: Это место – ваша утопия?
КШ: Нет, я просто хочу, чтоб его построили. У меня есть детальные идеи касательно размера залов и их оснащения. Я нарисовал план для местности за моим домом – сейчас там только пустые луга. От проезжей части должен вести туннель к многоэтажной подземной парковке, откуда посетители на лифтах поднимаются в великолепный парк. Семь залов теряются в деревьях и кустарниках. Необязательно, чтобы в них всех одновременно что-то происходило, но части «Света», например, можно исполнять одну за другой. В лучшем случае действо должно происходить во всех семи залах одновременно, но это уже зависит от финансовых возможностей.
ХУО: Отсюда мы переходим к вашему утверждению, что в будущем музыку будут исполнять в основном на открытом воздухе, как, например, ваше произведение «Sternklang» («Звучание звезд», 1971).
КШ: В парках Берлина, Мюнхена, Ла-Рошели, Шираза, Бирмингема и близ Флоренции мы устанавливали сцены с динамиками, спрятанными в деревьях. Конечно, большую часть моей пространственной музыки можно играть на открытом воздухе, если в распоряжении имеется тихое место вдали от дорог и самолетов. Мне посчастливилось дать семь невероятных концертов «Сириуса» в монастыре Санта-Кроче во Флоренции. Над головой было звездное небо, четыре солиста играли в северной, южной, восточной и западной частях клуатра, а динамики располагались по кругу над ними. Ощущения были совершенно иные, нежели в концертном зале или соборе. Подобная музыка рождает особенные эмоции. Она обладает удивительной силой приближать человека к тому, что незримо глазом, ибо она сама незрима. Музыка повествует о незримом. Людское восприятие мира в наше время настолько сосредоточено на его визуальном аспекте, что почти никто не может слышать, ощущать законы природы и красоту вселенной через звуки. Для этого требуется особая подготовка и руководство. По этой причине я считаю, что в музеях следует иногда выключать свет и играть музыку. [Виллем] Сандберг[10] три месяца делал так в Городском музее Амстердама. В установленное время дня выключался свет и звучала музыка. Несколько раз в день солисты исполняли определенные композиции, и их выступление передавалось через динамики во всех галереях музея. В некоторых залах музыку сопровождало особое освещение. Но главная мысль такова: закрой глаза и слушай, слушай, слушай. В мире, где главную роль играет слуховое восприятие, родится новый человек, который будет жить иначе и избавится от визуального плена рекламы.
ХУО: По-моему, очень интересно, что вы сотрудничали с Сандбергом. Расскажете, как возник ваш проект?
КШ: Сандберг часто приходил на мои концерты. Как-то раз он предложил свою идею: найти звукоинженера, установить в нескольких галереях Городского музея Амстердама аудиосистему и проигрывать через нее мои произведения. Через динамики можно было воспроизводить не только электронную музыку, еще было важное произведение «Unsichtbare Chöre» («Невидимые хоры», 1979) для восьми динамиков, расположенных по кругу. Мы решили, что для проекта лучше выбрать какую-нибудь не очень заметную выставку, желательно связанную некоторым образом с музыкой. Мы не хотели, чтоб это была шумная выставка популярного современного искусства. Сандберг был полон энтузиазма и добился разрешения для проекта. Он пригласил меня заняться им. Для открытия мы подготовили пять выступлений музыкантов, а в большом зале на первом этаже воспроизводили музыку через расположенные по кругу динамики. На протяжении последующих дней в больших галереях в разное время проходили несколько получасовых концертов.
Закончив работу над «Светом», я приступил к новому проекту под названием «Klang» («Звук», 2004–2007). Для меня это те два явления в жизни, благодаря которым мы можем выйти за пределы обычного мировосприятия. Я имею в виду «Свет» не только с точки зрения оптики, но в его космическом значении, ведь ритмы Вселенной, в которой мы живем, определяются Солнцем, планетами и Луной. Цикл «Звук», над которым я планирую работать ближайшие годы, состоит из 24 часов. Я напишу музыку для каждого часа в сутках. Будет музыка для 3 часов утра, для 5 часов вечера. По моему замыслу, для «Звука» нужно здание, в котором можно, как в музее, ходить по разным залам и в каждом слушать определенную композицию. Я пришел к выводу, что семь дней недели не вызывают у людей четких ассоциаций. Это довольно странно, учитывая, что во время работы я исследовал значение дней недели в культурах разных народов, и значат они очень много – это касается и мироощущения, и одежды, и распорядка. Я живу в лесу, но при этом я слышу не просто тишину – я слышу звезды, самолеты тоже, к сожалению, птиц, зверей, но еще я замечаю, как мое тело меняется с каждым часом. В разные часы наиболее активны разные органы. Я постепенно открываю для себя, как человеческое тело, наш душевный настрой, наша чувствительность к космическим волнам меняются от часа к часу. У меня уже есть прекрасный план помещения для этого произведения, когда оно будет закончено. Тут в окрестности есть много подходящих площадок, и нужно, чтобы заинтересованные музыканты по часу исполняли на них соответствующие части произведения. В каждой комнате необходимо установить звуковую систему и придумать еще что-то для зрительного восприятия. Для чувственного восприятия музыки слушатели должны в первую очередь быть к ней неравнодушны. Нам понадобится создать целую новую культуру. Но сначала люди должны на учиться слышать звук. Сейчас в Германии закрываются музыкальные школы, распускаются оркестры. ‹…›
ХУО: Только сегодня вы говорили, что писали музыку. Но ведь вы известны тем, что принципиально отвергаете партитуры. Как же так? Как происходит «планирование» произведения?
КШ: Мой период отрицания партитур относится к 1967–1969 годам. Но даже в это время я писал и печатал музыку. Конечно, я записывал процесс. Без партитуры невозможно обнаружить ошибки. Ни в коем случае нельзя отделять композицию, записанную на бумаге, от ее исполнения вживую. По этой причине я провожу большую часть времени в студии и свожу свою музыку, как я делал, например, последние два месяца по восемь часов в день.
Но это было бы невозможно без практики живых выступлений. Даже после шести недель репетиций «Engel-Prozessionen» [«Процессии ангелов», 2000, вторая сцена оперы «Воскресенье» («Свет»)] с хором в Хилверсюме и двух недель записи каждой из семи групп по отдельности я все равно потом еще больше месяца по восемь часов в день сводил записи в студии, регулировал баланс, синхронизацию и высоты нот. А хор пел очень хорошо. Идеальное качество и точное соответствие партитуре возможны только благодаря новому искусству звукового сведения. Звук, баланс – вот стандарты будущего. Живое выступление интересно с той точки зрения, что ты видишь музыкантов, их воодушевление или отсутствие оного в непосредственной близости. Что касается качества исполнения, то в будущем знающие люди будут в первую очередь сравнивать партитуру с музыкой, записанной в студии. Запись должна остаться в веках как максимально точная реализация этой партитуры. Иного пути в будущее нет.
ХУО: Если я правильно понимаю, то вы сначала экспериментируете, а потом уже – зачастую на основе записи – пишете партитуру?
КШ: Да, иногда я так делаю. Но многие работы я сначала писал на бумаге, а потом шел в студию, там дорабатывал их и уже после исполнения исправлял партитуру. На самом деле так бывает чаще всего. Особенно когда я использую традиционные инструменты – сначала я сочиняю, потом тщательно репетирую. Я никогда не предлагаю другим то, что не могу сыграть сам. А если требуется дирижировать, я сначала дирижирую сам и параллельно вношу правки. И вношу немало. Последующие корректировки вносятся на стадии сведения, как последние два месяца было с «Процессией ангелов» и «Düfte – Zeichen» [«Запахи – знаки», 2003, четвертая сцена из оперы «Воскресенье» («Свет»)]. После внесения правок, касающихся динамики (в том числе длительностей, которые часто приходится менять после прослушивания композиции), ритма и даже произношения, если в композиции есть вокальные тексты, появляется еще одна партитура. Это уже третья ступень.
ХУО: Так сказать, партитура партитуры?
КШ: Да, именно, если вам угодно. Итак, сначала идет первая партитура, потом партитура репетиции, потом партитура сведенной записи. Только в ходе этого процесса я могу добиться идеального результата – таковы мои жизненные стандарты, когда речь идет о точности и красоте.
ХУО: Я видел, что вы часто используете цвет при записи партитур. Что означает цветовой код?
КШ: Цвета часто выделяют слои звука – по ним проще понять, какой инструмент ты сейчас читаешь. Я приведу пример. У меня много распечаток, вот одна из них. Композиция называется «Helikopter – Streichquartett» («Вертолет – струнный квартет», 1995), которую исполняют четыре струнника в четырех летящих вертолетах. Их игра транслируется через динамики. С самого начала работы я обозначал четыре струнных инструмента разными цветами, поэтому очень просто отследить, в каком месте партитуры какой звучит инструмент. При работе над второй партитурой, уже после живого исполнения, у меня была прекрасная возможность в точности зафиксировать результат при помощи электронного оборудования. Хорошо видны восемь слоев восьми разных цветов с точно указанным временным кодом, который соответствует реальному звучанию. Так же в партитуре обозначены вертолеты: 1) скрипка-вертолет; 2) скрипка-вертолет; 3) альт-вертолет; 4) виолончель-вертолет. Потом я еще раз записал партитуру целой композиции, разметив ее восемью цветами. Без обозначения цветом легко потеряться. Благодаря такой схеме в композицию проще вслушиваться. Можно выбрать небольшой кусок и слушать его раз за разом до тех пор, пока не разберешься, что именно в нем звучит.
ХУО: Вашу композицию с вертолетами впервые исполнили в Амстердаме, а затем в прошлом году в Зальцбурге состоялся еще один концерт.
КШ: Был настоящий кошмар! Это мероприятие организовал производитель безалкогольных напитков [Red Bull] в новом аэропорту [аэропорт Зальцбурга]. По случайности туда пригласили группу гринписовцев, и они подняли такой шум, что во время представления ничего не было слышно.
ХУО: Несколько месяцев назад Пьер Булез сказал мне, что не верит в законченные партитуры. Партитура, по его убеждению, всегда в процессе создания. Кейдж говорил об «открытых» партитурах. А что думаете вы?
КШ: Я беру на себя труд сопровождать свои произведения на протяжении множества концертов в течение долгих лет и только потом записываю партитуры. Такие партитуры практически безупречны. В данный момент, с середины декабря, я переписываю партитуру «Mixtur» («Микстура»), композиции, которую я сочинил в 1963–1964 годах. Я не то что переписываю ее, а скорее привожу в совершенно другой вид, основываясь на огромном количестве живых исполнений этого произведения. Мне хотелось бы представить ее новый вариант, «Mixtur 2003». По сути это та же старая «Микстура», только партитура теперь выглядит совсем иначе.
ХУО: Что вы думаете по поводу тишины в музыке? Несколько лет назад я брал интервью у философа Ганса-Георга Гадамера в Гейдельберге. Ему тогда был 101 год. Беседа вышла странная. Он захотел изложить свою точку зрения на интервью. Он очень долго говорил о том, что невозможно транскрибировать тишину. Без сомнения, тишина играет для вас важную роль. Каков будет ваш ответ Гадамеру – можно ли транскрибировать тишину?
КШ: Когда я преподавал композицию, я часто давал студентам задание вставить в композицию долгую паузу, отдельно обращая их внимание на важность того, с чем граничит эта пауза – какой звук раздается после и с чего она начинается. Она наступает внезапно, как разрез в плотном звуковом потоке, или музыка постепенно ослабевает перед ней? Очень важно то, что следует за паузой, говорил я. Любого композитора волнует вопрос, как долго пауза может длиться и при этом не нарушить течения музыки. Такую же задачу решает архитектор, когда рассчитывает длину моста Золотые Ворота. Конечно, при моем опыте я могу в определенной мере предвидеть, какое звучание должно предшествовать паузе, чтобы она оставалась «живой». Я имею в виду не только мощную волну энергии до нее, но оба «берега» паузы, до и после. Существует огромное количество разновидностей пауз.
Если приводить простейшие примеры, то можно сочетать сильное начало и слабый конец, слабое начало и слабый конец, слабое начало и сильный конец, можно использовать глиссандо или резко обрубать по краям. Комбинаций бескрайнее множество. Меня сейчас особенно интересует этот вопрос – я закончил писать «Образы света» и теперь вношу правки в его распечатанную партитуру. Они написаны таким образом, что в нем присутствует эффект эха на двух музыкальных слоях. К примеру, за фигурой бассетгорна следует пауза. Пауза образуется в результате удвоения изначальной длительности фрагмента, фигуры, в то время как другой инструмент, флейта с кольцевым модулятором, вступает через некий меняющийся временной промежуток. Промежутка может не быть вовсе, или он может длиться до 26 восьмых триолей в заданном темпе. После него флейта повторяет фигуру бассетгорна, и задержка начинает постепенно сокращаться. В результате возникает множество пауз. У обоих инструментов. Конечно, фигура повторяется не всегда точь-в-точь. То же случается во втором слое, уже с другим эхо, и там паузы зависят от задержки между солистом-тенором, который поет текст, и трубой, которая повторяет фигуры с задержками от нулевой до максимальной. Паузы ключевым образом формируют восприятие произведения: возникает достаточно долгий промежуток между фигурой и ее повторением, сыгранным уже в другом контексте. Важно в «Образах света», как предполагает название, то, что повторения в двух двусоставных слоях воспринимаются не только на слух, но и визуально. Музыканты совершают шесть типов движений: если смотреть со стороны зрителя, они перемещаются слева направо во время крещендо, справа налево во время декрещендо, вверх по диагонали налево или направо вместе с нарастающей мелодической фигурой, резко прыгают вверх или сверху вниз одновременно с музыкальным скачком, еще есть круговые движения, то есть музыкант вращается вокруг своей оси. Их движения фиксируют камеры и специальное электронное оборудование и преобразовывают в композиционные визуальные элементы, контра пунктные или синхронные. Это расхождение визуально отражают семь основных составляющих жизни: силы природы и природные явления, растения, животные, строение космоса, созвездия, святые люди, преклонение. Художники по визуальным эффектам в первую очередь ориентируются на эти образы. Им не надо буквально иллюстрировать то, о чем поет тенор.
ХУО: Идет ли речь о комплексных системах? Вы рассказывали в интервью о том, как пришли от нот-«точек» к «группам» нот. Мне это напомнило о моих беседах с Хейнцем фон Ферстером, когда он говорил о Норберте Винере и кибернетике[11]. Можно ли сказать, что в «Образах света» мы наблюдаем сложные динамические комбинации петель?
КШ: Можно, но, очевидно, нужно определить, что имеется в виду под «петлями». Петля, казалось бы, означает точное повторение. Но здесь не совсем так. Земля совершает петлю – год, – вращаясь вокруг солнца, но не бывает двух одинаковых лет, кроме того, происходит эволюция. Важно понимать, что петля подразумевает нечто крохотное, как движение молекул в человеческом теле вокруг общего центра. Истинное значение имеют только рост или уменьшение, к которым приводят эти петли обратной связи.
ХУО: Очень интересны ваши отсылки к биологии. Вы цитировали биолога Виктора фон Вайцзеккера[12] в связи с биологическими часами организма.
КШ: Для меня главный тезис фон Вайцзеккера таков: не вещи существуют во времени, а время существует в вещах. Собственное время каждого элемента, в музыке в том числе, имеет невероятное значение. Его ни в коем случае не определяет время на часах, или время метронома, или даже время исполнения. Музыкальный организм рождается в воздухе и сам создает время для каждой своей составляющей. Он создает свое время, и мы следуем ему, в результате получая совершенно новый временной опыт. Вот чем особенна музыка: тем, что каждое произведение дает нам совершенно новое ощущение времени, и порой нас уносит так далеко, что мы покидаем границы обычного физиологического времени и времени тела. Человек забывает сам себя, потому что оказывается в ином измерении. Некоторая музыка способна произвести такой эффект.
ХУО: Марсель Дюшан однажды сказал, что созерцатель произведения искусства делает 50 процентов работы[13]. Вы согласны с ним?
КШ: Я не вдаюсь в психологию. Для меня нет разницы, сколько вносит от себя слушатель моего произведения в силу своего музыкального образования. Что важно для меня, так это то, что произведение может существовать и само по себе, без слушателя. Часто бывает, что я один по три-четыре часа репетирую в зале октофоническую композицию. Я не размышляю о том, как повлияет подготовка слушателей и их характер на восприятие работы. Работа существует. Важно, что произведения существуют, их звучание можно воспроизвести, и они есть не только на бумаге.
ХУО: Мы возвращаемся к теме помещений. Вы не только занимались концертными залами, но и проектировали здания, хоть и небольшие. Меня особенно интересует «дом в лесу», тот самый, в котором мы сейчас разговариваем, с двумя светлыми шестигранными комнатами из стекла, в котором отражается лес. Вы автор проекта этого дома?
КШ: В 1963–1964 годах я попросил Эриха Шнайдер-Весслинга [немецкий архитектор], ученика Нойтры [один из важнейших архитекторов-модернистов], построить для меня дом – это был его второй по счету проект. Я сам сделал много набросков и отдал их ему, а он уже создал макет. Макет состоял из нескольких прямоугольных комнат и балконов, выходивших на фасад. Тогда я предложил архитектору использовать шестиугольные помещения, как я делал тогда в музыке. Его ассистент нашел для меня шестиугольную чертежную сетку, при помощи которой я спроектировал дом. Мне нужно было придумать функции комнат.
ХУО: У вас есть еще один архитектурный проект, «Музыка для дома» [«Musik für ein Haus», коллективный проект семинара по композиции], реализованный в Дармштадте в 1968 году. Он мог бы существовать и по сей день. Было бы замечательно, если б сейчас можно было поехать в Дармштадт и увидеть его.
КШ: Это невозможно. В проекте участвовали двенадцать композиторов и множество исполнителей. Его суть заключалась в том, что музыку исполняли одновременно на нескольких этажах и передавали из зала в зал. На каждом этаже находился звукоинженер, который при помощи двух или трех регуляторов мог постепенно прибавлять или убавлять звук в динамиках в его зале. Иными словами, мы создали связь – иногда двустороннюю – между несколькими музыкальными помещениями. В подвале я установил оборудование для четырехканального воспроизведения четырех выступлений, проходивших в здании, через четыре динамика. Слушатели могли свободно ходить по залам. Исполнители, конечно, находились в отгороженной части, и посетители не видели их. А в подвале через динамики можно было послушать музыку из всех четырех залов сразу. Затея получилась интересная, но она требовала крайне тщательной подготовки с точки зрения композиции.
ХУО: Можно сказать: полифония как променад. Слушатель прогуливается бок о бок с музыкой.
КШ: В Бонне мы сделали нечто похожее, да и в Дармштадте у нас был аналогичный проект. В большом здании школы [Международная музыкальная школа Дармштадта] в нескольких холлах исполняли музыку дуэты. Посетители подходили к музыкантам, какое-то время слушали их, а потом шли к следующему дуэту. Очень интересно было внедрить в процесс исполнения физическое приближение к источнику звука или удаление от него. В прошлом году состоялась премьера моей новой работы «Hoch-Zeiten» [игра слов в немецком: «Свадьба» и «Высокие времена» для хора и оркестра] в Лас-Пальмас [в Зале Альфредо Крауса], а позже ее исполнили в Кельне [в Кельнской филармонии]. На ней публика тоже перемещалась. Это последняя часть «Воскресенья» из «Света», композиция для пяти хоровых групп на пяти языках с пятью оркестровыми группами. Пять оркестровых групп играют в одном зале, хоровые группы поют в другом, а между залами установлена связь через микрофоны и динамики. Семь раз звук из оркестрового зала звукоинженеры выводят в зал с хором, и семь раз наоборот, из зала с хором в зал с оркестром. Во время антракта группы менялись залами, но было бы лучше, если б публика переходила из зала в зал, а музыканты оставались на месте. Изначально я хотел сделать именно так, но в Кельне это оказалось невозможно, потому что один зал вмещал 1800 зрителей, а другой только 600. Очень интересно, что два зала полностью синхронизованы с помощью метронома, все пять каналов. В каждом зале пять групп поют или играют одновременно и в такт в своем темпе. Их синхронизирует дирижер, который слышит метроном в наушниках. То есть пять оркестровых и пять хоровых групп синхронно исполняли музыку в определенном временном интервале, чтобы не совпадали постепенные нарастания звука. Это был эксперимент с синхронизацией ансамблей, разнесенных в пространстве. Не обязательно, чтобы они оба были в Кельне. Я могу синхронизировать ансамбль в Кельне с ансамблем в Австралии или еще где угодно. ‹…›
ХУО: На ваших архитектурных набросках присутствуют некие хроматические круги. Это, похоже, поворотные столы, а не концертные помещения.
КШ: В 1959 году для моей работы «Kontakte» («Контакты») по моему проекту сделали специальный стол. Посередине располагался динамик, от которого вверх поднимался кабель, а по краям на каждой стороне – четыре микрофона. Я вручную вращал стол с разными скоростями, до шести оборотов в секунду – по часовой стрелке и против – и записывал звук через микрофоны на четыре дорожки. Затем музыка воспроизводилась через четыре динамика. Впервые можно было услышать звук кругового движения в пространстве. Через двенадцать лет я заказал второй стол. Его модель все еще стоит в Немецком музее Бонна. Этим столом, тоже с динамиком по центру, можно было управлять дистанционно. Сложно себе это представить, но он мог вращаться со скоростью 24 оборота в секунду. Благодаря ему я смог включить новые слои звука в произведение «Сириус». Через восемь микрофонов я записывал звук из вращающегося динамика на восемь дорожек магнитофона, а затем проигрывал через восемь динамиков, расположенных по кругу, таким образом получался «вращающийся» звук. Скорость была огромная. Когда звук кружится настолько быстро, его движение теряет направление. Он неподвижно висит в воздухе, и даже легкое движение головы слушателя меняет весь обертоновый спектр вращающегося звука. Иначе говоря, слушатель может менять музыку движениями тела.
ХУО: Получается, это ваше изобретение?
КШ: Да. Даже первый эксперимент с вращением не имел до того аналогов. Шесть оборотов в секунду, которые совершает динамик, – это уже очень быстро. В таком темпе музыкант едва может играть.
ХУО: С одной стороны, вы изобретатель. Как композитор, вы изобретали инструменты и технические приемы вроде этого. В то же время вы вдохновляли других на открытия, так что вас можно назвать изобретателем изобретателей. Вспомнить только ваше влияние на Петра Зиновьева[14] и всю сцену синтезаторной музыки.
КШ: У Зиновьева, как вы знаете, была студия в Лондоне, и он несколько раз навещал меня в Кельне. Я был поглощен мыслями о создании так называемого синтезатора, который мы в дальнейшем и изобрели. Первый синтезатор собрал Гарри Олсон из Принстонского университета для Колумбийского университета в Нью-Йорке. Это была огромная махина с довольно ограниченными возможностями. На самом деле он сделал эту машину для Голливуда, чтобы имитировать звук традиционных инструментов.
ХУО: Он продолжил труды Оскара Салы?[15]
КШ: Сала больше работал в собственных интересах. Американцы просто хотели делать музыку и при этом не платить оркестру. Первые синтезаторы, к сожалению, не достигли убедительного звучания. Был один композитор, [Милтон] Бэббитт [первопроходец серийной и электронной музыки], который написал несколько этюдов на синтезаторе, но на меня они не произвели впечатления. Мы с Зиновьевым много обсуждали, какие необходимы параметры. Потом он собрал «Synthi 100». Я купил его для Студии электронной музыки WDR в Кельне и после нескольких лет работы использовал этот синтезатор при исполнении «Сириуса». Правда, что даже в нынешней версии «Сириус» несколько ограничен в тембрах из-за небогатых возможностей синтезатора в этом плане, но в остальном «Synthi 100» стал первым синтезатором, на котором можно было достичь настолько невероятных эффектов, в том числе изменения длительности и других временных параметров. Это событие имело огромную важность.
ХУО: Можно ли назвать «Свет» «совокупным художественным произведением» [Gesamtkunstwerk[16]]?
КШ: Не думаю, ведь я всего лишь создал зрительный ряд, который визуально отражает мою музыку, дополненный фантазией художниц по декорациям Гае Ауленти[17] и Марии Бьорнсон[18]. То же касается двух опер, поставленных в Лейпциге. Там сценой и костюмами занимался замечательный художник Йоханнес Конен. При работе он не просто руководствовался ассоциациями, но создал очень образный ряд, четко повторяющий музыкальные ходы. Масштабы его работы были таковы, что он заполнил весь временной код оперы «Пятница» из «Света» почти 500 световыми эффектами и идеально синхронизировал их с музыкой. У нас получилось очень тесное сотрудничество. Я уже предложил Центру искусства и медиатехнологий в Карлсруэ назначить Йоханнеса Конена ответственным за оформление моей новой работы «Образы света», которую в этом году должны поставить в городе Донауэшинген. Я пока еще плохо представляю, как он визуально воплотит семь сфер бытия, о которых я говорил раньше. Но важно, что ему нужно будет следовать за движениями музыкантов: их будут фиксировать камеры и современное оборудование для передачи видеосигналов и преобразовывать в визуальный ряд.
ХУО: Как известно, хореография начинает приобретать все больший вес в ваших работах. Играют ли тут роль фильмы? Вы упоминали Антониони. Вы когда-нибудь сотрудничали с кинематографом? Вашу музыку использовали в картинах или, может, вас просили написать саундтрек?
КШ: Три года назад братья Куэй использовали мою музыку [в короткометражном фильме «In Absentia» / «В отсутствие», 2000]. Для экспериментального кино он имел довольно большой успех. В нем 20 минут электронной музыки.
ХУО: То есть к кинематографу вы имеете только поверхностное отношение?
КШ: Да. Как я уже говорил, в жизни важнее приобретать слуховой опыт, нежели зрительный. Много раз я отмечал, что визуальные образы дают душе очень ограниченное пространство.
ХУО: По этой причине вы почти не сотрудничали с художниками?
КШ: Тэнгли был моим другом.
ХУО: Жан Тэнгли?
КШ: Да. Он создал многие свои произведения под непосредственным влиянием моей электронной музыки. Он приезжал в Кельн. Еще был Гарри Крамер [немецкий художник, представитель кинетического искусства, работал в начале 1960-х]. Я не знаю, до сих пор ли он известен. Он под впечатлением от моей музыки делал сложные вращающиеся скульптуры.
ХУО: Тэнгли известен куда больше.
КШ: Жан Тэнгли много времени провел со мной в Студии электронной музыки. Еще несколько раз приезжал Ив Кляйн. Особенно в начале своего «синего» периода, когда он покрасил в синий цвет несколько роялей в Кельне. Все должно было быть синим. Потом он пришел ко мне и сказал, что я просто обязан написать синюю музыку для его выставки…
Родился в 1908 году в Нью-Йорке, умер в 2012 году там же.
Эллиот Картер – американский композитор оркестровой и камерной музыки, а также автор произведений для сольного инструментального и вокального исполнения. Славу одного из главных композиторов-инноваторов ХХ века ему принесли эксперименты с соотношением темпов и тесситурами. Он стал обладателем высших премий для композиторов, в том числе Пулитцеровской премии, а также был первым в истории композитором, награжденным Национальной медалью США в области искусств. Игорь Стравинский называл его «Двойной концерт для клавесина и фортепиано с двумя камерными оркестрами» (1961) и «Концерт для фортепиано» (1967) «подлинными шедеврами».
Эллиот Картер окончил Гарвардский университет по специальности «английский язык и музыка». Затем с 1932 по 1935 год в Париже он брал уроки у Нади Буланже, пока учился в Высшей нормальной школе, где в 1935 году получил докторскую степень по музыке. В основном он работал в жанре концерта и струнного квартета. Уже в преклонном возрасте Эллиот написал огромное количество произведений. В период с 90 до 103 лет он издал более 40 работ.
Данное интервью, ранее не опубликованное, было взято 4 января 2004 года в Нью-Йорке.
ХУО: Есть ли у вас нереализованные проекты? Утопические или слишком масштабные для воплощения? Ненаписанная музыка?
ЭК: У меня есть одна недописанная работа. Я начал ее, но так и не закончил. Это вторая одноактовая опера, продолжение той, что я написал для Берлинской оперы [«What next?» / «Что дальше?», 1997–1998]. Ее сюжет о секте самоубийц. В такой секте [Орден храма Солнца] состоял Мишель Табачник, дирижер, который учился у Пьера Булеза, и меня очень интересовала его фигура. Но потом я решил, что тема слишком сложная, и не стал продолжать. Я написал один отрывок и даже придумал общую структуру, но вдруг задумался, можно ли шутить с такими вещами. Как мне вести повествование – серьезно или с иронией? Какую позицию занять? В конце концов, для членов этой секты она значит очень много, тогда как посторонний человек только ужаснется или высмеет ее. Я не знал, какой тон задать произведению. К тому же старику не слишком радостно писать о том, кто собирается покончить с собой, и я подумал: «Ну нет!»… Вот это мое не дописанное произведение. Иногда у меня возникает желание довести его до конца, но едва ли я соберусь с духом. Меня привлекла эта тема потому, что 10–15 лет назад в Турине Табачник много дирижировал моими работами, и он казался мне необыкновенным человеком. Я не мог вообразить, что он связан с безумной сектой… Вот и все, больше у меня нет незавершенных произведений, на данный момент по крайней мере. По молодости я часто оставался недоволен работами, рвал их и выбрасывал, но это было уже очень, очень давно.
ХУО: Я пытаюсь представить себе ваш архив. Я знаю, часть его хранится в Фонде [Пауля] Захера в Базеле. По какому принципу вы сортируете его? Как устроена ваша студия? Каким образом проходит ваш рабочий процесс?
ЭК: Ну, я делаю много маленьких набросков, из которых потом складывается большое произведение. Все эти наброски я высылаю в Фонд Захера, чтобы не устраивать дома бардак. И знаете, в Базеле очень хотят напечатать мои письма. Феликс Майер готов издать целую книгу моих писем к Наде Буланже[19], Булезу и Конлану Нэнкэрроу[20]. Когда-то мы с Нэнкэрроу вели активную переписку, и Фонд ей заинтересовался[21].
ХУО : Он тогда жил в Мексике?
ЭК: Да, в Мексике. Когда он вернулся с гражданской войны в Испании и поселился в Нью-Йорке, я часто видел его. Он очень нравился мне как человек.
ХУО: Я не помню, чтобы вы когда-то писали о Нэнкэрроу, поэтому спрашиваю. Можете рассказать о нем? Что вас в нем привлекло?
ЭК: Кажется, я ничего не писал о нем. Вовсе не потому, что мне неинтересно или он мне не нравился, просто не было возможности и подходящего случая. Думаю, на его творчество сильно повлияла моя музыка, и он писал так в письмах. Со временем мы стали общаться меньше, но в начале нашей дружбы я помог ему опубликовать несколько работ на «Коламбия рекордз». Они плохо продавались. Он стал знаменит, только когда его заметил Джон Кейдж.
ХУО: Какие отношения связывали вас с Джоном Кейджем?
ЭК: О, мы почти не были знакомы. Мы мало виделись лично, хоть я и знал его еще на заре карьеры. Я помню, он собирал деньги для танцевальной труппы Мерса Каннингема и просил многих американских композиторов прислать ему свои рукописи для продажи. В детстве я жил в Германии, во времена, когда один доллар стоил миллион марок. Я взял банкноту в миллион марок, разлиновал ее и написал на ней композицию, которую и отправил Кейджу. Джон Кейдж прислал мне ее обратно со словами: «Это не похоже на твои работы».
ХУО: И что с ней стало? Она теперь в вашем архиве?
ЭК: Нет-нет, у меня ее нет. Кажется, я отдал ее сыну. Не знаю, что с ней теперь. Но тот случай меня повеселил. Как-то раз он давал концерт в колледже через дорогу, и Дэвид Тюдор[22] играл композицию с использованием усилителя. Ему нужно было в определенных местах включать этот усилитель и увеличивать громкость пианино. Ну а усилитель не заработал. Он долго пытался его починить, пока я не встал и не сказал: «Давайте выйдем из зала! А ты все наладишь. Потом позови нас, когда будет готово!» После концерта Джон Кейдж сказал мне: «Благодаря тебе концерт удался!» [Смеется.]
ХУО: То есть вы только изредка пересекались?
ЭК: Да. Однажды он пригласил меня с женой на ужин, и как-то сам приезжал к нам на ужин сюда. Он увидел вон ту каменную скульптуру и спросил: «Вы ее на пляже подобрали?» [Смеется.]
ХУО: Вы говорили, собираются издать книгу вашей переписки. С кем еще из композиторов вы много переписывались?
ЭК: Мы активно переписывались с Феликсом Майером, Николаем Набоковым и Конлоном Нэнкэрроу. Мы часто встречали Нэнкэрроу, когда он был тут. Он жил очень бедно, и я брал у него уроки испанского, чтобы помочь ему. Потом он уехал в Мексику, и мы с женой несколько раз навещали его. Мы писали ему: «Скоро приедем, скажи, в какой отель нам лучше заселиться». Мы не только ходили в гости и ужинали вместе, но иногда он приглашал нас в свою студию. Там стояли его фортепиано и оборудование для перфорации ленты для механического пианино. Должен сказать, он сразу меня заинтересовал, как и Аарона Копленда[23]. Я даже читал про него лекции, когда преподавал в Джульярдской школе. Но они не имели успеха. Как я уже сказал, он стал знаменит, только когда его заметил Джон Кейдж и выбрал его композицию в качестве аккомпанемента для танцевальной постановки Мерса Каннингема. В том кругу его очень любили. Но среди тех людей, с которыми общался я, никто не был о нем высокого мнения. Его считали любопытным, но не выдающимся.
ХУО: Вы упомянули, что переписывались с Чарльзом Айвзом[24]. Сильно ли он повлиял на вас?
ЭК: Я часто видел его, когда мне было 16–17 лет. Отчасти благодаря ему я решил стать композитором. Позже, когда я начал сочинять музыку, меня заинтересовали неоклассические произведения. Сейчас это уже пройденный этап. Но тогда я пришел к нему со своими первыми работами в стиле [Пауля] Хиндемита[25], и они ему не понравились. Он был решительно настроен против этой школы… [Смеется.] Такое было время. Меня смутила его реакция, потому что я участвовал в неоклассическом движении после Первой мировой войны. Я ведь старый человек. Я пережил Первую и Вторую мировые войны. Еще ребенком я ездил по памятным местам Первой мировой, таким как Верден. Мы с семьей объехали всю Европу, включая Берлин, Верден и так далее. Я за свою жизнь насмотрелся на войну, в разных ее проявлениях. Вернувшись домой после учебы у Нади Буланже, я сильно увлекся неоклассицизмом. Это было до Второй мировой. Когда я впервые услышал «Конкорд-сонату» Чарльза Айвза [«Concord Sonata», 1919/1947], она мне не понравилась и напомнила Листа излишним романтизмом и напыщенностью. Теперь мне уже так не кажется, но в то время возникли такие ощущения.
ХУО: Отсюда вытекает мой следующий вопрос: в прошлых интервью вы говорили, что считаете музыку конца ХХ века слишком однообразной, слишком статичной; вы еще использовали красивую цитату из Томаса Манна про «миниатюрное время». Можете рассказать об этом?
ЭК: Кажется, это цитата из «Волшебной горы» (1924). Я помню, как-то в молодости я приехал к Айвзу и беседовал с ним о Стравинском. Он сказал, Стравинский ему не нравится – слишком однообразен. Он сыграл вступление из «Жар-птицы» (1910), которое запомнил на концерте, и сказал: «Здесь одни повторы». С тех пор мы пережили музыку Сати, – его бесконечное произведение, – еще Джорджа Антейла (1900–1959) – я, правда, плохо его знал – автора «Механического балета» (1924), который в ранней версии почти целиком состоял из повторов. Мне всегда казалось, что повторений нужно всячески избегать как чего-то чисто машинального, лишенного человечности, которая присуща выдающейся музыке.
ХУО: Как вы объясните такой парадокс: с одной стороны, вы критикуете музыку начала XX века, а с другой – вас называют композитором-модернистом? На прошлой неделе я брал интервью у Булеза и спросил у него, что он думает о модернизме в XXI веке, и он в агрессивной форме высказался против постмодернизма. Хочу спросить у вас то же самое: как вы представляете модернистскую музыку в XXI веке – или сейчас?
ЭК: Честно, я не знаю. Прожив столько лет, мне сложно предсказать, как будет развиваться музыка после XX века. В начале XX столетия, например, был период Шенберга, Стравинского, Бартока и других. Когда я повзрослел, они уже «вышли из моды» и их место заняли Пуленк, Орик, Хиндемит, Курт Вайль и другие – какое-то время они считались новаторами. Был период, когда играли Айвза, а потом он тоже «вышел из моды». Только после Второй мировой вся эта музыка снова вернулась. Никто не мог предсказать, что так случится. До Второй мировой никому в голову не приходило, что Гитлер может запретить модернистскую музыку, а СССР совершенно изменит стиль Шостаковича. Никто не представлял себе, что произойдет… Бог знает, что будет теперь! Мир так изменчив и непредсказуем. Мы очень многого не знаем. Что, например, последует за войной в Ираке? Я не могу загадывать. Может, мы отзовем свои войска, а может, там начнется гражданская война и все это наложит свой отпечаток на наш музыкальный мирок. Только приехав в Америку, Шенберг говорил, что американцам нравится оркестровая музыка. Он считал, что музыка в этой стране – «gonfé», «раздутая», и относился к ней скептически. Теперь, наверное, камерная музыка сменит оркестровую, кто знает. Вариантов развития много. И все же, если произведение действительно стоящее и людям оно нравится, его будут играть вне зависимости от того, в каком стиле оно написано. Во времена моей молодости никто не поверил бы, что Малера еще станут играть.
ХУО: Тогда его музыку совсем не исполняли?
ЭК: На нескольких концертах сыграли «Четвертую симфонию» Малера, но… Леонард Бернстайн стал крупной фигурой – неожиданно для всех. Что касается Малера, то тут многое зависело от таланта дирижера. Бернстайн придавал его музыке такую силу, что слушатели оставались под большим впечатлением. В нашей стране был целый период Бартока. Здесь жило много венгерских дирижеров, и все давали концерты Бартока – Антал Дорати, Фритц Райнер. Теперь Бартока играют реже. Простите, у меня не получается лучше ответить на ваш вопрос.
ХУО: Почему же, вы дали интересный ответ. Как вы описали бы нынешнее состояние модернизма? Я недавно говорил об этом с Пьером Булезом.
ЭК: В мире музыкантов слово «модернизм» утеряло свое значение, ведь изначально модернистская музыка во всех своих аспектах противопоставляла себя классическому периоду – периоду Бетховена и Брамса. Теперь сложно определить, что такое модернизм. Знаете, на мой взгляд, стиль играет роль, если только его придерживаться во всем. Например, «Весна священная» (1913) Стравинского по сей день для многих остается модернизмом. Это очень сильное произведение, и его часто играют. Однако было время, когда его не играли совсем. Я присутствовал на одном из первых концертов в Нью-Йорке, в Карнеги-холле, когда люди просто выходили из зала. Я уверен, так случалось не только с «Весной священной». У Пьера Булеза, например, есть сложные для исполнения работы, которые вызовут восхищение слушателя в любые времена. Но не знаю, это ли и есть модернизм. Ему очень сложно дать определение, тем более что дело касается всего молодого поколения страны. Что это – музыка Лучано Берио или музыка Стива Райха?
ХУО: Скажите, какую роль, на ваш взгляд, играет восприятие слушателя и публики?
ЭК: Это серьезный вопрос.
ХУО: Марсель Дюшан говорил, «зритель делает по меньшей мере 50 процентов работы».
ЭК: О, мы знали Марселя Дюшана, моя жена ваяла его статую.
ХУО: Вы знали его лично?
ЭК: Да. Как он, говорите, сказал?
ХУО: Он сказал, что зритель, созерцатель, делает 50 процентов работы[26].
ЭК: Конечно, так и есть. Только многое зависит от опыта зрителя. Сейчас слушательская аудитория сильно отличается от аудитории конца XIX – начала XX веков. Так же и с кино. Раньше строили огромные залы и показывали в них фильмы вроде «Рождения нации», а теперь эти залы разбили на много маленьких и в каждом крутят свое кино. Похожее случилось с музыкой. Большие симфонии еще есть, а вот их слушатели, я думаю, скоро исчезнут. Для каждой группы аудитории будет своя музыка. Аудитория стала куда более искушенной, одна ее часть, а другая, наоборот, менее искушенной. Публика разбилась на кружки.
ХУО: Расскажите о вашем знакомстве с Дюшаном. Ваша жена [Хелен Фрост-Джонс] сделала его статую?
ЭК: Да, она сейчас здесь, в музее Хартфорда [музей «Уодсфорт Атенеум», г. Хартфорд, штат Коннектикут].
ХУО: Ваша жена – художница?
ЭК: Да, ее уже нет в живых, но она была скульптором.
ХУО: Мы подошли к моему следующему вопросу. Я хотел спросить, каковы ваши отношения с изобразительным искусством. Бывали ли у вас диалоги или совместные проекты с художниками? Вы в своих записках говорили о Gesamtkunstwerk, «совокупном произведении», которое сочетает все виды искусства.
ЭК: Не знаю, сложно сказать. Я многого не понимаю в изобразительном искусстве. Мне не нравится поп-арт, и я не понимаю, зачем люди работают в этом стиле. Кажется, будто они это делают не всерьез, и выходит настолько очевидно, что даже не смешно.
ХУО: Но есть ли какой-то вид искусства, который вам близок?
ЭК: Да. Я еще в молодости следил за современным искусством и прочел много книг, Марселя Пруста и Джеймса Джойса. Потом, когда стали издаваться сюрреалисты, я читал их – Арагона и Андре Бретона, – но мне не очень-то нравилось. Ах, да, я еще прочитал книгу Натали Саррот «Мартеро» (1953). Еще мне очень полюбился роман Клода Симона «Акация» (1989). По-моему, он очень хорош.
ХУО: Чем вас заинтересовал «новый роман»? Может, он связан с вашей идеей «множества сущностей» в музыке?
ЭК: Да, я был знаком с автором «Изменения» (1957), Мишелем Бютором. Я встречался с ним и был высокого мнения о его романе. Во всех этих книгах мне нравится необычная авторская точка видения. «Изменение» рассказывает о поездке на поезде из Парижа в Рим. Клод Симон в «Акации» пишет о женщине, которая искала место, где был убит ее муж. Кажется, дело происходит после Второй мировой войны, и она пытается найти его могилу. История очень запутанная, и удивительно, как ее выстроил автор. Еще я читал «Жизнь, способ употребления» Жоржа Перека. Тоже очень увлекательный роман.
ХУО: Вы писали, что в период с 1948 по 1952 год вас занимала идея «множества сущностей» – концепции того, что музыкальная сущность не едина и постоянно находится в процессе формирования. Может, есть связь между вашими исследованиями множества сущностей в музыке и идеями писателей вроде Натали Саррот? Пять лет назад я брал у нее интервью – ей тогда было сто лет, – и она рассказывала мне о формировании сущности. Каждый глагол в романе – это актер.
ЭК: Верно.
ХУО: Если каждый глагол – это актер, то вместе они создают полифонию. Может, связь с музыкой в этом…
ЭК: Для меня каждая нота – актер. Я придерживался такого взгляда с очень давних времен – с 1950-го, а то и раньше. Я создаю несколько слоев музыки с разной динамикой, и в одном из них звучит главная, самая сильная тема. Словно поток мыслей, поток переживаний. Я пытался передать то, что одновременно происходит на периферии и в фокусе сознания. Еще я часто использовал идею резких переходов. В одних моих произведениях много таких скачков, в других – потоков сознания. Об этом писал Макс Нубель в книге «Эллиот Картер, или Плодородное время» («Elliott Carter, Оu le temps fertile», 2000). Вступление к ней написал Булез.
ХУО: Название, очевидно, подводит нас к теме времени. Было бы интересно услышать о вашей концепции течения времени – вы много писали о ней. И конкретно о вашем видении времени как потока.
ЭК: К примеру, сейчас я пишу композицию, в которой сначала нарастают несколько элементов и занимают центральную позицию, а затем отходят на задний план, уступая место другим. Музыка словно течет, все время меняя свой фокус. Мне нравится работать в такой манере.
ХУО: Меня заинтриговали два ваших струнных квартета [Струнные квартеты № 1 и 2, 1951 и 1959], в которых вы воплотили идеи растяжения и моментального сжатия. Как они связаны с вашим представлением о времени?
ЭК: Замысел первого квартета, конечно, не такой радикальный, как второго. При создании первого я в основном сосредоточился на развитии темпа на разных уровнях. В первой части одновременно присутствуют четыре, пять или шесть тем, и у каждой свой темп, и на протяжении композиции они по-разному сочетаются между собой. Во втором квартете я попытался наделить музыкантов своим характером, чтобы в музыке чувствовался темперамент каждого. У каждого свой ритм, гармонические характеристики, линейный материал и даже способы звукоизвлечения. Первый скрипач второго квартета исполняет партию виртуозно, у второго манера более спокойная, робкая. Я старался сыграть на контрасте характеров участников квартета. Позже я использовал этот прием и в других произведениях. В третьем квартете инструменты разделены на две группы: в одной скрипка и альт, в другой скрипка и виолончель, и они одновременно играют разную музыку.
ХУО: Понятно. Я хотел бы еще поговорить о Бахтине и его книге о Достоевском и полифонии. Можно ли с такой точки зрения рассматривать вашу музыку? Мне кажется, ей свойственна полифония.
ЭК: Достоевского беспокоят три или четыре основные проблемы, и одна из них заключается в том, что попытки людей с идеалистическими воззрениями воплотить свои идеалы в жизнь заканчиваются катастрофой. В «Идиоте» (1868–1869) главный герой, который воплощает образ Христа, пытается вмешиваться в ход событий, делать добро и в итоге теряет рассудок. В «Бесах» (1872) все одержимы. Ставрогин хочет сделать мир лучше, но в результате связывается с радикальной организацией, которая устраивает в городе поджог. Мне кажется, сам Достоевский был консервативным человеком и пытался показать, к чему приводят радикальные настроения. Он писал очень сложные романы в плане разнообразия характеров и взаимоотношений персонажей… Еще «Преступление и наказание» (1866). Раскольников думал, что поступает правильно, но убийство старухи оборачивается кошмаром.
ХУО: Вы рассказали о своем отношении к литературе, не могли бы мы теперь поговорить о театре и кино?
ЭК: Вы должны понимать, что мой подростковый период пришелся на время от возникновения Советского Союза и до прихода к власти Сталина. Это была современная, развивающаяся страна, не только в отношении кинематографа, но и живописи и литературы. В то время появилось много замечательных фильмов – Эйзенштейна, Пудовкина. Они были сняты очень интересно, необычно, по-новому. Монтаж Эйзенштейна меня особенно впечатлил. Он умел создать напряжение через отдельные детали – например, детскую коляску, скатившуюся по лестнице. Это наложило отпечаток на мой образ мышления. Меня очень интересовали работы Пудовкина того периода, особенно сцены, в которых действие развивалось за минуту. Он тоже сильно повлиял на меня. Американцы не умели так снимать. Разве что Орсон Уэллс да еще кто-то. Французское, итальянское и немецкое кино мне было ближе, чем американское.
ХУО: Вы когда-нибудь писали музыку для фильмов?
ЭК: Нет, меня никогда не просили. В нашей стране считают, что моя музыка не для широкой публики, поэтому никто мне не предлагал.
ХУО: А вам было бы интересно?
ЭК: Что ж, не знаю. Многие европейские композиторы писали любопытную музыку для фильмов. Будучи студентом в Париже, я часто слышал интересные работы. [Артюр] Онеггер создал замечательную музыку для фильма про человека с деревянной ногой. Потом, Аарон Копленд работал над несколькими фильмами [«О мышах и людях» (1939), «Наш городок» (1940), «Наследница» (1949)]. В последнее время в Голливуде образовалось замкнутое сообщество специализированных кинокомпозиторов, и другим в него просто так не попасть. На фестивале в Охае [Музыкальный фестиваль в Охае, долина Охай, штат Калифония] – по-моему, Пьер Булез там тоже был – со мной по соседству жил композитор, который писал музыку для фильмов. Он как-то мне сказал: «Столько диссонансов может быть только в саундтреке к сцене убийства!» [Смеется.]
ХУО: Вы подвели меня к следующему вопросу. Для меня стало неожиданностью, что фестивали 1950-х и 1960-х годов имели для вас большое значение. Моя работа связана с организацией фестивалей, концертов и выставок в музеях и за их пределами, поэтому я интересуюсь выставками, современными фестивалями и подобным. Многих композиторов я расспрашивал про Дармштадт.
ЭК: Я никоим образом не участвовал в дармштадтской школе и никак с ней не связан.
ХУО: Совсем никак?
ЭК: Нет, но много о ней слышал, потому что был подписан на «Die Reihe» – журнал, который там издавали. И я знал людей, которые туда ездили. Некоторые композиции участников дармштадтских курсов привлекли мое внимание. Но ко времени начала фестиваля в Дармштадте я был занят собственной музыкой, и мне было не слишком интересно, что там происходит. Что-то мне не нравилось, но были и очень красивые произведения, скажем [Карлхайнца] Штокхаузена и Лучано Берио.
ХУО: В своем недавнем эссе вы высказали очень интересную мысль: вам надоели повторы и вы хотите уделить больше внимания организации тесситур, избегая мелодии. «Узкая и широкая тесситуры как наложение скопления звезд и созвездия» («Thin and thick texture as a juxtaposition of cluster and constellation»). Вы упомянули, что [Янис] Ксенакис первым стал использовать соотношение узкой и широкой тесситуры. Не могли бы вы рассказать, что это за соотношение и каким образом вы противопоставляете его повторам в музыке?
ЭК: Я на своем веку прослушал немало музыки и пришел к выводу, что тесситуру можно использовать как важную часть композиции. Это уже делал Стравинский – и даже Шуберт, – но, чаще всего, весьма линейно. Я начал думать о более широком подходе. Я постоянно слышал моменты, когда музыку можно было бы расширить за счет тесситур. В некоторых моих произведениях больше меняющихся тесситур, нежели мелодического материала.
ХУО: В каких, например? Какую работу в этом плане вы считаете самой сильной?
ЭК: Я обыгрывал тесситуры уже в «Двойном концерте», который написал в 1960 году. Не знаю, повлиял ли как-то на меня Дармштадт, не помню. Хотя не думаю. Скорее, там чувствовалось влияние Вареза.
ХУО: Чем вас привлекло творчество Эдгара Вареза?
ЭК: Я был хорошо знаком с его работами. Мы жили всего в нескольких кварталах друг от друга и часто ужинали вместе. Мы регулярно виделись. Его музыка всегда вызывала у меня интерес.
ХУО: Ему нравилось писать в стиле 1920-х годов.
ЭК: Знаете, я сам увяз в этом периоде. Я ездил в Вену, когда Шенберг только написал «Сюиту для фортепиано, op. 25» (1921–1923), и у меня все еще хранится ее старая копия. Я выучил ее почти целиком. Я не догадывался, что это 12-тоновая композиция, до тех пор, пока не прочитал про нее после войны в книге Рене Лейбовица [«Шенберг и его школа», 1949]. До этого я не разбирался в структуре этой сюиты. Так что я узнал о 12-тоновой музыке спустя долгое время после того, как Шенберг изобрел ее, а ведь я слышал и любил его работы[27].
ХУО: Но вы же говорили, что 12-тоновые произведения в большинстве своем были только экспериментами: «Можно один раз их услышать и сразу понять, в чем суть». Вы писали, что чаще всего такие произведения нет нужды слушать больше одного раза. Какой же должна быть композиция, чтобы ее хотелось слушать многократно?
ЭК: Сложный вопрос. Я бы сказал, для меня композиция интересна – неважно, в какой период она написана, – если композитор написал ее с воображением, и воображением неординарным. Некоторые композиторы, например, писали очень интересные тесситуры. Скажем, Равель их исследовал с большим энтузиазмом, в балете «Дафнис и Хлоя» (1909–1912). Я от него в восторге. Очень красивый пример – «Répons» («Респонсорий», 1981/1982/1984) Пьера Булеза. Но если композитор просто следует правилам какой-то системы и не включает фантазию, то я не хочу этого слышать. Живое музыкальное воображение – вот что важно.
ХУО: Не могли бы вы пару слов сказать о «Симфонии духовых инструментов» Стравинского? И о Дебюсси. Вы говорили, что Стравинский и Дебюсси оба искали новой, свежей музыкальной психологии.
ЭК: Конечно, они оба – и Варез тоже – старались избегать старых методов развития музыкальной идеи. Им всем, Дебюсси в первую очередь, свойственно было начинать с некоей темы, затем активно ее задействовать, повторяя или слегка изменяя ее. Но не как у Бетховена, у которого темы развивались в музыкальные секвенции. В этом у них был совершенно иной подход.
ХУО: Конгресс за свободу культуры – фестиваль, проходивший в Риме, – для вас был важнее Дармштадта. Вы говорили, там глубоко исследовали новые, прогрессивные идеи. Расскажете о нем? Дармштадт все еще на слуху, а о том фестивале в Риме будто забыли.
ЭК: На фестивале в Риме в 1953 и 1954 годах сыграли мой первый струнный квартет, и моей музыкой заинтересовались Луиджи Даллапиккола и Гоффредо Петрасси. Петрасси позже стал президентом SIMC.
ХУО: Société Internationale pour la Musique Contemporaine – Международного общества современной музыки.
ЭК: Да. Он стал президентом и назначил меня вице-президентом. В 1955 году мы ездили в Баден-Баден, где проходили конференции и концерты. Там тогда в первый раз исполнили «Молоток без мастера» Пьера Булеза. Потом фестиваль проходил в 1958 году, и я что-то для него делал – честно говоря, не помню, что именно, кажется, составлял программу. Я много раз был в составе жюри, например в Амстердаме. С Дармштадтом я дела не имел. С определенной точки зрения моя музыка не такая уж модернистская, но в те годы меня интересовали подобные мероприятия. В 1960 году я посетил Кельн, и съезд тогда прошел очень весело. Я все время был в жюри. Японская делегация тогда очень интересовалась алеаторической музыкой, и они написали длинные сопровождающие тексты с инструкциями по ее исполнению – на ужасном ломаном английском! Мне приходилось переводить это все на немецкий, и в процессе мы смеялись до упаду… [Смеется.]
ХУО: В ваших ранних воспоминаниях о карьере композитора и поездках на фестивали часто встречается имя человека, про которого нынче стали забывать. Мне хотелось бы поговорить с вами о том, кого вы так часто упоминали в своих записках: о Хансе Росбауде.
ЭК: О, Росбауд, он был замечательный дирижер. Он дирижировал оркестром Юго-Западного радио Германии в Баден-Бадене. У него, кажется, учился Булез. Он дирижировал исполнением многих современных работ. Ему пришлось непросто во времена Гитлера, он оставался в Германии и, я думаю, в то время выступал не часто. Позже он возобновил концерты современной музыки. Он дирижировал первым исполнением оперы «Моисей и Аарон» в Цюрихе. Будучи болен раком, он дирижировал моим «Двойным оркестром» на лондонском фестивале. Это печальное воспоминание, к тому времени он был уже очень слаб. Это был замечательный человек, обаятельный и незаурядный. Как-то на фестивале в Баден-Бадене он повел меня по местам, где играл в рулетку Достоевский, и мы с ним много об этом говорили.
ХУО: И снова Достоевский! Я бы хотел еще поговорить с вами об электронной музыке.
ЭК: Большая часть электронной музыки, которую я слышал, мне не нравилась – она казалась мне слишком примитивной. Я понимал, что, если займусь электронной музыкой, мне понадобится по меньшей мере год только на то, чтобы освоить на удовлетворительном уровне электронное оборудование. Мне нравится одна композиция Милтона Бэббитта, «Филомела» (1969)[28]. Неплохие работы были у Марио Давидовски. У всех, кто смог добиться достойных результатов, ушли на это годы, просто так, с ходу ничего не напишешь.
ХУО: Мой друг Филипп Паррено просил спросить у вас, почему вы никогда не использовали электрогитару?
ЭК: Трудно сказать. Мне никто не предлагал, да и не то чтобы она мне по душе. Мне нравится то звучание инструментов, которое ты слышишь при живом исполнении. Я не люблю усилители, они меня раздражают. Мне нравится как можно более чистый звук, таким, каким его извлекает человек.
ХУО: И последний вопрос: о денежном аспекте работы композитора и дирижера. Работа дирижера оркестра обычно привлекает именно с финансовой точки зрения.
ЭК: Я думаю, в каждой стране по-разному. Лично мне основной доход приносят преподавание, лекции и статьи. Я преподавал в Йельском университете и во многих других учебных заведениях страны. Сейчас я получаю заказы и неплохо этим зарабатываю. В Европе композиторы часто работали исключительно на заказ, и им не приходилось ничем заниматься, кроме как сочинением музыки. Ксенакис, кажется, так зарабатывал на жизнь. Музыка – это не живопись, а даже художникам не всегда хорошо платят. Иногда картину выкупают за гроши и перепродают за миллионы долларов. Но художнику эти миллионы не достаются. Так что творческие профессии коварны, но что поделаешь? С какой-то стороны, это даже хорошо, потому что финансовая составляющая отсеивает тех, кто не полностью предан своему делу и не готов им серьезно заниматься. А это очень важно.
Родился в 1925 году в Монбризоне, департамент Луара, Франция. Живет и работает в Париже.
Пьер Булез – один из самых знаменитых французских композиторов своего поколения, дирижер современной классической музыки и выдающийся интерпретатор музыки Новой венской школы – Шенберга, Берга и Веберна. Пьер Булез учился в Парижской консерватории вместе с Мессианом, а также с Андрэ Ворабуром и Рене Лейбовицем. Он исследовал сериализм – композиционный метод, при котором в качестве основы композиции используется фиксированная серия нот – чаще всего 12 нот хроматической гаммы, – изменяемая лишь установленным образом. Однако наиболее известен он применением принципа управляемой случайности: его ранняя работа «Le Marteau sans maître» («Молоток без мастера», 1954) стала знаковым явлением в музыке XX века. Также Булез экспериментировал с электронным преобразованием звука при живом исполнении. Эти эксперименты подтолкнули его к основанию IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, Институт исследования и координации акустики и музыки) совместно с парижским центром Помпиду, где композиторы могли непосредственно сотрудничать с лучшими исполнителями, имея доступ к современному электронному оборудованию, и консультироваться со специалистами в области информатики. Пьер Булез вел активную карьеру дирижера; его исполнению была присуща аналитическая точность. Он стал главным дирижером Симфонического оркестра «Би-би-си» в Лондоне, руководил Нью-Йоркским филармоническим оркестром. Его партитуры с 1952 года публикует венский издательский дом «Universal Edition».
В основе данного интервью лежат несколько бесед с Пьером Булезом 2003–2005 годов в институте IRCAM в Париже, проведенных во время подготовки оперного проекта «Postman Time» («Время почтальона») – выставки временного искусства в театре под кураторством Филиппа Паррено и Ханса Ульриха Обриста. Ранее опубликовано на французском в книге Филиппа Паррено и Ханса Ульриха Обриста: Pierre Boulez, Conversations vol. 1. Ed. «Manuella Éditions», Paris, 2008. P. 71–82; а также в книге Филиппа Паррено и Ханса Ульриха Обриста: The Conversation Series vol. 14. Ed. «Walther König», Cologne, 2009, P. 123–141 под названием «The Score of a Score» (англоязычная версия).
www.universaledition.com/Pierre-Boulez/composers-and-works/composer/88
ФИЛИПП ПАРРЕНО: Термин «виртуальная реальность» ввел музыкант Джарон Ланье, и он же дал интерфейс этой главной метафоре последних 30 лет. Изначально виртуальная реальность предназначалась для написания музыки. Однако в некотором смысле идея альтернативных средств написания музыки изначально принадлежала вам. Когда именно интуиция композитора подтолкнула вас к ней?
ПБ: Я начал думать об этом еще в 1948 году, когда Пьер Шеффер[29] пригласил меня для участия в записи. Он попросил меня написать несколько аккордов, чтобы потом их обработать. У него была своя студия на улице Университе. Я хотел проследить за развитием идеи – а тогда все только начиналось – и в 1951–1952 годах стал членом его группы конкретной музыки. Я быстро понял, что затея несерьезная с претензией на «поэтичность» – такую поэтичность, в которой больше мутных пятен, чем ясности. Я ушел из группы. Затем в 1958 году при посредничестве [Карлхайнца] Штокхаузена я связался с кельнской Студией электронной музыки, где люди подходили к делу основательно и с более интересной позиции – просто в силу своего музыкального таланта. Потом, когда я переехал в Баден-Баден, «Südwestfunk» [немецкая организация общественно-правового вещания земли Рейнланд-Пфальц и южной части Баден-Вюртемберга, до 1998 года] оборудовала небольшую студию для работы над «Poésie pour pouvoir» («Поэзия вместо власти») – произведением для оркестра, голоса и электроники, доступной в то время, конечно. Меня по-прежнему не устраивало, что приходилось использовать самодельное оборудование. Я считал, уже должна бы появиться специально созданная для этих целей техника. В 1960-х, когда я регулярно ездил в Мюнхен и дирижировал концертами «Musica Viva» [серия концертов Новой музыки, которые проводились с 1945 года по инициативе композитора Карла Амадеуса Хартмана], я связался со студией «Сименс», на то время экспериментальной. Уровень ее технического оснащения меня приятно удивил – он уже был настолько современен, что не отставал от музыкальной мысли. Раньше меня постоянно раздражало, что музыкальная мысль шла далеко впереди мысли технологической. Теперь вопрос стоял в оборудовании музыкальной лаборатории, специального центра современной музыки. Тогда-то я и начал задумываться о необходимых технических решениях. Проект в итоге заморозили, где-то в 1968 году. Затем президент Помпиду попросил мне принять участие в деятельности центра Помпиду, который он тогда собирался открыть. Я согласился и предложил проект, который я до этого уже начал разрабатывать для одного фонда. С того момента я сосредоточился на синхронизации средств написания музыки с технологиями. Особенно меня интересовало компьютерное программирование. Я консультировался с несколькими современными студиями – «The Bell Labs»[30] в Нью-Йорке, в частности, с Максом Мэтьюсом, – и понял, что программирование еще находится в зачаточной стадии.
ХУО: В Нью-Йорке вы познакомились с Билли Клювером [инженер-электротехник «The Bell Labs», который содействовал сотрудничеству деятелей искусства с инженерами, создав организацию «Experiments in Art and Technologies, E. A. T.» («Эксперименты в искусстве и технике»)].
ПБ: Верно. В то время я хотел, чтобы компьютер по праву занял свое место в искусстве, хоть и понимал, что технологии еще не в достаточной мере развиты. Но в своей грядущей деятельности я выделил для него особое место. Как раз когда был основан IRCAM, в начале 1970-х, компьютеры начали стремительно совершенствоваться. Я поддерживал контакт с двумя институтами: Массачусетским технологическим университетом и Стэнфордским центром. Они во многом помогли мне с учреждением IRCAM. Я до сих пор им очень благодарен, потому что без их поддержки IRCAM не смог бы так быстро встать на ноги.
ХУО: Примерно в это время начали открываться большие студии, например студия с огромными компьютерами в Баден-Бадене. Потом с уменьшением габаритов техники все решительным образом изменилось. Это отразилось на вашей работе?
ПБ: Да, ведь все эти громадные машины работали по так называемому принципу разделенного времени. Кто-то один, например, долго писал вычислительную программу, а остальные просто ждали. В таких условиях не было места спонтанности. Я сам в 1975 году ездил в Стэнфорд и учился программированию. Тогда это было ужасно сложно, особенно если у тебя нет специальной подготовки: стоит забыть запятую или точку с запятой, так все сразу перестает работать. Позже появились детекторы ошибок, и ориентироваться стало проще. В плане визуализации тоже произошел прогресс – от черно-белого изображения к цветному, – что позволило более интуитивно обращаться с машиной. Но на первых порах работать с техникой было очень непросто, потому что у нас имелся только базовый, дедуктивный опыт взаимодействия с ней.
ФП: Выходит, прогресс программирования способствовал рождению новых идей.
ПБ: Да, разумеется. Но сегодня все гораздо проще: можно использовать готовую программу и исходить при работе из ее возможностей. От нынешней техники нас тогда отделяли световые годы. Требовался колоссальный труд, чтобы воспроизвести одну-две секунды звука, и то выходило не очень чисто. В наше время стоит за что-то взяться – и у тебя уже почти сразу есть результат. Поскольку технологии сейчас несоразмеримо сложнее, пользоваться ими стало несоразмеримо проще. Однако это не делает тебя изобретателем. У тебя появилось больше возможностей, но изобрести что-то все еще невероятно сложно.
ФП: По-прежнему ли партитура, рукопись занимают центральное место при написании музыки?
ПБ: Да, партитура нужна для сочетания слоев музыки, нужна для памяти. Она не может исчезнуть. Знаете, технологии постоянно находятся в переходном состоянии, хотя, казалось бы, достигнуто совершенство. И чем дальше, тем короче будут переходные периоды. Например, сейчас нам все время приходится переводить в современный вид работы, написанные 20 лет назад. Оборудование меняется каждые 5-10 лет; функции партитуры нужно пересматривать, ее приходится переводить на другой язык, адаптировать к новому аппарату. С фортепиано XIX века проблем не столько, сколько с техникой 25-летней давности – откровенно говоря, спустя такой срок работать с ней уже просто невозможно. Поэтому все еще нужна партитура. Не партитура в традиционном понимании, с нотами и ладами, а уже совсем другая: численная, цифровая, какая угодно. Пускай написанная сейчас партитура будет несовместима с будущим оборудованием – всегда можно воссоздать ее в условиях новой техники. То есть придется записать ее по-другому, но содержание останется прежним.
ФП: Это ли и есть «партитура партитуры»?
ПБ: Именно.
ХУО: К слову о которой: когда вы еще не закончили работу, вы говорите, что у произведения «промежуточный статус». Разве тут нет противоречия: вы пишете партитуру, которая фиксирует проделанную работу, но при этом вы оставляете результат открытым для изменений, как спираль?
ПБ: Да, партитура фиксирует результат, но и она сама, бывает, находится в промежуточном состоянии. Мой процесс работы напоминает мне Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Мне нравится этот музей, хотя со мной не согласились бы многие кураторы музеев и выставок, которых раздражает, что там всегда приходится идти по одной и той же траектории и ее никак нельзя изменить для выставочных нужд. Но, на мой взгляд, очень интересно, как она объединяет прошлое, будущее и настоящее. Видишь сразу несколько вещей: можно обернуться и увидеть то, что только что осмотрел, можно поднять глаза и увидеть то, до чего еще не дошел на следующих витках спирали. Ты начинаешь сравнивать, и, таким образом, в пространство выставки вплетается столь интересный для меня фактор времени. В других музеях ты вынужден идти, крутить головой, возвращаться в другие залы, снова выходить из них и так далее. Приходится двигаться самому. А тут ты только двигаешь глазами. Возвращаясь к партитурам: на самом деле некоторые из них завершены. Когда спираль заканчивается, ты ведь не пойдешь по тому же пути в обратную сторону. Но когда чувства и интуиция подсказывают тебе, что работа требует продолжения, ты откладываешь ее и потом, когда снова принимаешься за произведение, уже видишь проблемы и можешь их решить. В моем случае этот метод особенно актуален, поскольку я еще и интерпретатор: если я слышу произведение и остаюсь им не доволен, я понимаю, что надо изменить, и снова возвращаюсь к работе. Это не значит, что я возвращаюсь на следующий же день. Это значит, что проблема осталась, и я решу ее, рано или поздно.
ХУО: Филипп немного ранее упомянул Джарона Ланье, который в начале 1980-х придумал термин «виртуальная реальность». Я часто слышал, как вы в интервью называете партитуру своего произведения «…explosante-fxe…», «виртуальной». Что такое виртуальная партитура?
ПБ: По правде говоря, виртуальной партитуры пока не существует. Как раз вчера я говорил об этом с коллегами в IRCAM. Виртуальную партитуру можно модифицировать как функцию от заданных параметров. Другими словами, у вас есть числа, которые соответствуют разным параметрам высоты, времени, интенсивности и т. д. И у вас есть партитура в виртуальном виде. Представьте, какие это дает возможности для конструкции разных систем: например, системы, которая через оптический детектор отслеживает траекторию, по которой вы идете, и в зависимости от нее вносит изменения в партитуру. Широкий диапазон сокращает до узкого. Одни гаммы заменяет на другие, иного вида. Крайне насыщенная полифония, скажем, трансформируется в более разреженную. Структура музыкального дискурса сохраняется, но содержание можно изменять. Это содержание не существует само по себе и имеет место только в цифровом пространстве, то есть оно исключительно виртуально. Числовые параметры соответствуют тому или иному явлению действительности. Что самое интересное, так это элемент интерактивности. Музыкант, например кларнетист или пианист, может задавать партитуру через динамику своего исполнения. Его динамика влияет на виртуальную партитуру, когда преодолевает некоторый порог, и изменяет, скажем, гамму. Или насыщенность. Если у исполнителя очень напряженный, порывистый стиль игры, то в течение произведения насыщенность партитуры будет уменьшаться, создавая таким образом контраст. Или наоборот, если инструментальное исполнение недостаточно напряженное, виртуальная партитура начнет ускоряться. Это уже другой вид интерактивности. В случае с отслеживающей системой интерактивное действие совершается заранее. Ты проходишь через луч лазера и вносишь изменение в партитуру. Проходишь через другой – меняешь еще что-то. Или начинаешь новую партитуру. Когда речь идет о музыканте, то действие, совершенное в настоящий момент, непосредственно влияет на дальнейшее течение музыки. Этот проект я пока не смог осуществить. Но я собираюсь.
ХУО: Ваш неосуществленный проект… Теперь я должен озвучить вопрос, который я задаю всем, у кого беру интервью: есть ли еще важные задумки, которые вам не удалось реализовать?
ПБ: Есть, но эта – самая важная, потому что соединяет в себе концепцию времени и события – концепцию взаимосвязи между временем и действием, соотношения между цифрами и реальностью.
ФП: Кроме того, в ней вы могли бы проявить себя и как композитор, и как интерпретатор.
ПБ: Верно. Мои жесты влияли бы на содержание.
ФП: Для вас особенную важность представляет сиюминутность.
ПБ: Да. Меня подтолкнуло в этом направлении то, что мне пришлось сильно ограничивать себя, когда я имел дело с синхронизацией. Во время работы с оркестром «Би-би-си» я несколько раз сотрудничал с английскими композиторами электронной музыки. У них была полностью написанная партитура, законченная запись, а значит, оставалось обеспечить точную синхронизацию. Точная синхронизация на протяжении 10 минут лишает интерпретатора какой-либо свободы действий и занимает все его внимание. Если отстаешь, надо ускориться, если опередил, надо притормозить, так что каждый жест, даже еле заметный, совершается рассудочно, а значит, не интуитивно. После этого опыта я дал себе обещание никогда больше не работать в настолько ограниченных условиях. Это чуждо самой сути интерпретирования.
ХУО: В вашей книге о записи жестов [«L'écriture du geste», 2002] вы часто возвращались к теме организации, внутреннего порядка.
Что вы скажете с этой точки зрения о самоорганизации, актуальной сейчас во многих дисциплинах? Вам близка эта идея – идея бесконтрольного творчества?
ПБ: Без контроля над чем? Мы никогда не теряем контроль. Жест всегда рождается из партитуры. К счастью, не всегда одинаковый, но он варьируется в определенных пределах. Что такое, например, тактовый размер? Ты никуда не денешься от заданного метра [métrique]. Нельзя его изменить до неузнаваемости. Он все равно будет узнаваем, хоть и искажен местами. Так было и раньше: если у тебя есть слух, ты сразу услышишь диссонансную ноту, когда она вносит дисгармонию в рамках принятой нормы. Ситуация не изменилась, разве что нормы сейчас более гибкие, открытые, но они все еще нормы. Ты можешь транспонировать и обрабатывать музыку, но свойства конкретного объекта неизменны. Существование этого объекта, с того момента, как он окончательно утвердился, первостепенно по отношению к композитору. Человек может изменять объект только в измерении его свойств.
ХУО: Могли бы вы с этой точки зрения рассказать о «Молотке без мастера» (1955), о соотношении теории и практики, о понимании и непонимании?
ПБ: Нам всегда кажется, что интерпретация – это полная свобода. Берешь материал и переделываешь его под себя. Но все не так просто. Материал существует только тогда, когда ты соблюдаешь все внутренние и внешние соотношения и когда ты готов пользоваться не только цифровыми средствами. Во-первых, существует иерархия явлений – в нашей западной музыке, да и во всякой музыке, что я изучал. Высота звука – важнейшее свойство[31]. Вне всяких сомнений. С высотой шутки плохи. Можно транспонировать произведение целиком: например, композицию в тональности до-мажор сыграть в ре или ми, сохранив при этом все связи. Внутренняя структура произведения легко перенесет транспонирование. Но если ты решишь менять интервалы, то восприятие будет совершенно искажено. Высота требует строжайшей дисциплины. Все остальное относительно – что-то меньше, что-то больше, но все же. До тех пор пока метр и пульсация [pulsation] определяют ритм, ты можешь его контролировать. Пульсация – равномерная или ломаная – играет решающую роль в цифровом варианте композиции, будь то Моцарт или Стравинский. Но если пульсация как таковая отсутствует, если расстояния между нотами зафиксированы исключительно графически, то тут глаз тебе не помощник. Глаз не может определить точное числовое значение. Интуиция может подсказать, когда длительность ноты должна быть чуть длиннее или чуть короче, но у тебя уже нет контрольных точек. Ритм бывает очень четким, а бывает и размытым, в отличие от высоты. Динамические характеристики контролировать тоже нельзя: что такое «фортиссимо»? 100 децибел, 95 децибел, 81 децибел? Фортиссимо трубы – совсем не то, что фортиссимо мандолины. И воспринимаются они совсем по-разному. Никакие динамические свойства нельзя контролировать полностью, я уже не говорю про акустику помещения и прочее. Параметров так много, что жесткие требования предъявлять невозможно. Этот феномен отразился в эволюции музыкальной нотации. Издревле отталкивались от высоты нот, а пропорции интервалов отражали невмы. Это была не самая точная форма записи. В первую очередь люди начали фиксировать относительные высоты нот, потом уже абсолютные. Гораздо позже появилась мензурная нотация. В партитурах эпохи барокко, например, не было ни темпа, ни динамики, потому что исполнители сами знали, какие они должны быть. Динамика впервые приобрела важность у Моцарта, а потом, в куда большей степени, у Бетховена, который первым стал помечать «сфорцато», контрасты и тому подобное. Впоследствии идея получила обширное развитие. Тембр стали учитывать еще позже. Из барочной музыки тысячи примеров можно найти у Баха: он меняет инструменты при переложении, адаптирует произведение для другого формата исполнения, меняет какие-то моменты и т. д. Чем дальше, тем больше мы учитывали специфику тембров. В «Opus 16» (1909) – «Farben» Шенберга инструментовку уже нельзя изменить. Он уделил большое внимание специфической окраске звучания каждого инструмента. Таким образом, в истории музыкальной нотации произошла эволюция в отношении тех параметров, где требуется точность и где нет. Тембр нельзя выразить в числовой форме. Он не постоянен. Одни тембры, конечно, грубее других, и кто-то пытался ввести систему градации, но градация все равно не справлялась с задачей. И речь не только о тембре, но и о звукоизвлечении, о накале и многом другом. Важную роль играют множество элементов, которые невозможно вписать в линейное эволюционное развитие.
ХУО: Говоря об оркестровых дирижерах в контексте организации и самоорганизации, вы подвергаете сильному сомнению тот факт, что дирижер может быть гениальным. Вы рассуждаете о психологии, о том, что жест управляет интерпретатором и остается им не понят.
ПБ: В этом есть что-то загадочное, и в то же время никакой мистики. Если ты верно усвоил жесты, ты сможешь работать. Но только лишь работать, подчиняясь ряду правил. Гораздо сложнее почувствовать суть жеста, понять, как донести послание до музыкантов, как подготовить их к тому, что им предстоит сыграть. Ты можешь быть строгим и точным, но интерпретация от этого совершенно не выиграет. Ты можешь приблизиться к пониманию миссии интерпретатора и освободиться от излишней дотошности, но тогда ты рискуешь зайти слишком далеко: создать пышную, но беспорядочную интерпретацию. Интерпретатору нужна страсть, но нужно уметь управлять ей. Ты, как шизофреник, разрываешься между жаждой экспрессии и потребностью держать все под контролем. А когда имеешь дело с публикой, чувствуешь себя еще более странно. Честно говоря, очень сложно объяснить это – разве что при помощи внешних критериев. Представьте, вы интерпретируете новую работу, в первый раз. Публика в той или иной степени чувствует, насколько хорошо программа отрепетирована, уверенно ли ощущают себя музыканты. Спрашиваете, каким образом? Скорее всего, из-за созвучий. Если музыканты уверены в себе, они аккуратно обращаются с созвучиями, в противном случае у них выходит агрессивно или, наоборот, очень робко. В целом созвучия не достигают своей полноты. Это первое. Во-вторых, играет роль визуальный аспект: если музыканты чувствуют себя свободно, если они увлечены, они и держатся по-другому. Такие признаки сказываются, но не всегда. Иногда удивительно, как хорошо зрители принимают абсолютно незнакомое музыкантам произведение. Это остается загадкой.
ФП: Возможно, дело в самой музыке. Мне вспомнилось, что Клемен Росс [французский философ] недавно сказал нам: музыка – это реальность, замкнутая сама в себе и существующая по своим правилам.
ПБ: Да, но ты имеешь возможность сравнивать с другими произведениями репертуара, с тем, что ты слышал раньше, что тебе уже знакомо и т. д.
В случае с новой работой неизвестно, с чем сравнивать. У тебя есть только то, что я называю «контрактом доверия» [«contrat de confance»]. Дирижер выбирает группу музыкантов и произведение, а значит, он уверен и в том и в другом. По этой причине начинаешь доверять и ему. У этого доверия нет реального основания, оно сугубо интуитивно, и это странное явление. Однако контракт доверия способен создать благоприятную атмосферу еще до начала концерта. Конечно, эта атмосфера должна оставаться и после того, как произведение сыграно.
ФП: Как будто у слушателя, когда он слышит новое произведение, появляется некий ориентир. Он настраивается на него или входит в синхронную фазу.
ПБ: В каком-то смысле да. Люди, которые часто ходят на концерты современной музыки, как и те, кто видел много современного искусства, вырабатывают то, что с некоторым преувеличением можно назвать «шестым чувством», своеобразную остроту суждения. Они тем не менее могут ошибаться. Но они понимают важность оценочного суждения и обладают определенными необходимыми для него навыками.
ФП: К слову о публике: как говорят, модернизму свойственна политика отстранения. Мне приходит на ум сравнение с теориями Ульриха Бека [немецкий социолог]. Существует мнение, что сейчас мы живем в момент становления политики вовлечения, управления нашими эмоциями, в период постаффекта. Сказались ли на музыке эти перемены?
ПБ: На музыке они сказались сильнее, чем того ожидали. У современной музыки слушателей не так много, это очевидно. Но мы не стремились к малочисленной аудитории, просто ситуация сложилась таким образом. Главное в творчестве и изобретательстве – не пытаться мучительно угодить широкой публике. Прежде всего, нужно делать то, что считаешь необходимым. Если оно не производит моментального эффекта, значит, время еще не настало, но однажды оно придет; просто сейчас сложилось так. Если творчество сразу находит отклик, это, конечно, приятнее. Ты получаешь большее удовлетворение, но не более того. Ценность все же определяется другими критериями. Для меня самое важное – делать то, что ты должен. Не нужно, конечно, говорить: «Я создал то-то, и мне неважно, сейчас его время или через 30–40 лет». На мой взгляд, композитор, автор или, в особенности, драматург все же должен попытаться непосредственно донести свое детище до публики. Лично меня по этой причине всегда раздражает полемика и дискуссии вокруг произведений, которые люди не слышали и не видели. Многие ли умеют читать партитуры? Вовсе нет. Во время таких дискуссий иногда ловишь себя на мысли, что люди апеллируют к идеям, которые не имеют отношения к самому произведению. Они ссылаются на то, что говорили другие или они «где-то слышали» и так далее. По сути, люди начинают рассуждать, оперируя фиктивными доводами. Еще с молодости я пытался установить некий канал связи со слушателем. «Я представляю вам нечто. Вы теперь можете вынести свое суждение, и вы властны сами сформировать это суждение. Но вы не сможете проигнорировать само произведение, иначе вы недобросовестная публика». Очень важно, на мой взгляд, разделять добросовестное и недобросовестное мнение. По этой причине я при первой возможности начал давать концерты; сначала для своего поколения, когда я был молод, потом для младших поколений, чтобы люди обсуждали нечто реальное, а не теории.
ФП: Как вы думаете, возможны ли сейчас проекты вроде IRCAM?
ПБ: Сейчас основать такой институт гораздо сложнее. В первую очередь из-за экономической ситуации – теперь редко встретишь щедрость в нашей области. Во-вторых, тогда инициатива исходила от самого президента Республики.
ХУО: Но были же и другие партнеры, министры…
ПБ: Да, Жак Ланг сотрудничал с нами, но уже после основания IRCAM. Благодаря ему мы построили новое крыло. Но самим проектом мы обязаны Помпиду. Когда политик настолько интересуется культурой и искусством, политические нюансы отходят на второй план; начинаешь смотреть выше их. В этом плане мои отношения с политикой предельно ясны. Я стою в стороне от партий, но если мне предлагают что-то, я пользуюсь возможностью.
Я бы сказал, политика тут – лишь инструмент, как и я сам. IRCAM был создан не ради политической выгоды и не ради моей собственной, а с целью дать независимое творческое пространство деятелям искусства.
ФП: Как вы думаете, сильно ли сдерживает музыкантов экономический аспект их деятельности?
ПБ: Да. Уже 20 лет идут разговоры о новом концертном зале, о зале для оркестров, которым он необходим, – но ничего не сделано. В проекте Ла-Виллет [парк Ла-Виллет, Париж] поначалу было все, что нужно: три концертных зала, консерватория, музей, даже оперный театр. Потом опера отделилась – ладно. Все еще оставались три концертных зала. Но из-за экономических трудностей после первого нефтяного кризиса бюджет урезали. Проект по сей день находится в подвешенном состоянии. Пока нет политического импульса – а в данном случае он должен быть в первую очередь политическим, – ничего не происходит. Миттерану оказалось все равно. Как и Жоспену. Ничего не сдвинулось. У Ширака были другие заботы, и у Раффарена… Знаете, это очень символично. Сейчас в стране есть два основных проекта, как раз начиная со вчерашнего дня: реставрация Версаля, национального достояния, куда съезжаются туристы со всего мира, – тут денег не пожалели и выделили сумму, которой хватит на 17 лет вперед! Во-вторых, усовершенствование автомагистралей, железных дорог и т. д. Проект рассчитан на 25 лет! Средства вкладывают в эти проекты просто феноменальные. Но до музыки никому нет дела. Сейчас, по крайней мере.
ХУО: То же самое с современным изобразительным искусством.
ФП: Политиков больше волнует сохранность национального наследия.
ХУО: Таким образом, вы уже взаимодействовали с политическими структурами в связи с музыкой во Франции. Из политиков вы также были хорошо знакомы с Мишелем Ги.
ПБ: Да. На мой взгляд, только два французских министра культуры действительно оправдывали свое звание и искренне интересовались вверенной им областью, а не пользовались ей как плацдармом для других нужд. Это Жак Ланг и Мишель Ги. Ближе к концу своего пребывания на посту Жак Ланг выдвинул прекрасную идею: создать должность министра культуры и образования. Объединить две области, которые тогда существовали и теперь продолжают существовать раздельно. Идея не прижилась, поскольку он стал министром культуры и образования всего на два года и не успел реализовать свои проекты. Мишель Ги был не из мира политики; он, скорее, дружил с политиками. Он занимал пост во времена Ширака, но министром его назначили с подачи Жискара. В сфере искусства Мишель Ги чувствовал себя как рыба в воде. Он знал всех. Он разбирался в искусстве и живописи. Музыкой он увлекался еще задолго до того, как стал министром. У нас получилось наладить с ним продуктивный диалог. Иногда встречаешься с политиком, неважно, левым или правым, и кажется, будто ты говоришь по-китайски! Он совершенно не понимает, чего ты от него хочешь.
ХУО: Вы сейчас продолжаете сотрудничать с Фрэнком Гери. В журнале «Domus» была статья об этом[32].
ПБ: Верно, еще мы вместе участвуем в семинарах. Должен отметить, его лос-анджелесский проект, концертный зал имени Уолта Диснея, просто великолепен. Я знаю его с 25 лет. Мы стали друзьями еще до того, как он прославился. Но его известность совершенно ничего не изменила.
Родился в 1922 году в г. Браила, Румыния. Умер в Париже в 2001 году.
Янис Ксенакис – греческий авангардный композитор, музыкальный теоретик и инженер-архитектор. Большую часть жизни прожил в Париже и получил французское гражданство. При исполнении своих произведений Ксенакис использовал новаторские приемы, в том числе распределение музыкантов по зрительному залу, и проводил грандиозные мультимедийные шоу, которые он называл «политопами». В статье «Заметки об электронном жесте» [«Notes sur un geste électronique», под ред. Жана Пти, опубликована в «Le poème électronique. Le Corbusier», издательство «Minuit», Париж, 1958] он обозначил основные принципы электронного тотального искусства и понятие музыкальной ориентации в пространстве. Ксенакис первым использовал в музыке математические модели, а именно стохастические процессы, теорию игр и теорию множеств, и внес огромный вклад в развитие электронной музыки. Книга «Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition» / «Формализованная музыка: мысль и математика в композиции» (1971), сборник эссе о его музыкальных идеях и техниках композиции, считается одной из самых важных теоретических работ о музыке XX века. Изначально Янис Ксенакис изучал архитектуру и инженерное дело в Афинском национальном политехническом университете. Во время Второй мировой войны он участвовал в греческом Сопротивлении, а позже – в первом этапе греческой гражданской войны, был серьезно ранен в лицо, после чего покинул страну и бежал в Париж. Правая администрация греческого правительства приговорила его к смертной казни. Приговор смягчили только 23 года спустя, в 1974 году, после падения Режима полковников. В Париже Ксенакис устроился работать инженером-ассистентом в архитектурной студии Ле Корбюзье. Вскоре он начал участвовать в создании крупных проектов, таких как павильон «Филипс» для Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе, в котором состоялась премьера «Poèmeélectronique» / «Электронной поэмы» Эдгара Вареза. По замыслу Ксенакиса павильон представлял собой электронно-пространственную среду для тотального восприятия, в которой взаимодействовали архитектура, кино, свет и музыка. Проект стал предпосылкой для будущих «Политопов».
Данный текст, ранее не опубликованный, состоит из двух интервью, взятых в доме Ксенакиса в 1999 году при участии его жены, Франсуазы Ксенакис.
Перевод с французского Кэтрин Темерсон.
ХУО: В интервью, которые вы дали [Франсуа] Делаланде[33], а также в его статьях особое внимание уделено использованию научных знаний в вашем творчестве. Расскажите, пожалуйста, что связывает вас с наукой?
ЯК: Для начала, я учился в Политехническом университете в Афинах. Меня интересовала наука в ее связи с искусством. Но последним я начал заниматься только после окончания университета. Мне с большим трудом давались пристойные работы. Но я никогда не брался за сугубо технические проекты, к этому у меня не было интереса.
ХУО: Диалог между наукой и искусством снова крайне актуален. ‹…› Питер Хофманн называл ваши произведения синтезом науки и искусства. Вас считают первопроходцем в этой области. Как Жорж Сера видел в живописи науку, так вы сравниваете с наукой свою музыку. Не могли бы вы подробнее изложить для меня эту мысль?
ЯК: Музыка состоит из взаимных связей. Для некоторых форм, хоть и не всех, это решающий фактор. Одна гамма всегда определяет последующую. Тона и полутона всегда чередуются в некоей последовательности. По сути, на музыку накладываются научные модели. И так было всегда. Авторы всех выдающихся произведений хоть что-то понимали в науке и уж точно много понимали в музыке. Научный подход достаточно ограничен, потому что он сух и сложен в применении, и музыканты часто пренебрегают им и сосредоточиваются исключительно на музыкальной стороне. У науки и музыки много общего, хоть и разные методы.
ХУО: Вы говорили мне, что после окончания университета больше не вели диалогов с учеными. Однако диалог с архитектурой у вас был, когда вы работали в студии Ле Корбюзье с 1948 года.
ЯК: Ле Корбюзье принимал все исполнимые проекты, интересные с точки зрения архитектуры. Он всегда хотел быть уверен в том, что он делает. Пространственные конструкции на самом деле близки к акустическим.
На это я и старался делать акцент при работе с ним. Он принимал мои идеи, если они внушали ему доверие. А они внушали.
ХУО: В наше время архитекторы сотрудничают с музыкантами при создании многофункциональных сооружений и стараются создать в них все условия для синтеза искусств. На ваш павильон «Филипс»[34]для выставки 1958 года часто ссылаются как на пример сотрудничества архитектора и музыканта. Расскажете о нем?
ЯК: Проект павильона одобрил Ле Корбюзье. Это был первый шаг. Мы решили вместе развить идею сходства пространственных сооружений с акустическими. ‹…› Здание нужно было спроектировать специально для произведения Вареза, но Вареза мало интересовала архитектура. По его убеждению, музыке было достаточно просто существовать. При таком отношении строительство зала для его музыки могли вверить посторонним людям.
ХУО: Ваша мысль о пространственной ориентации звука очень интересна. В 1960-х предпринимались и другие попытки реализовать пространственные проекты. Ла Монте Янг совместно с художницей Мариан Зазила создал особое помещение для исполнения своих композиций [«Dream House», 1969 – наст. вр.][35]. После павильона «Филипс» вы еще занимались исследованием пространства и пространственной ориентации музыки?
ЯК: Проект Ла Монте Янга не произвел на меня впечатления. Потенциал его идеи можно было бы раскрыть гораздо шире. Но все, разумеется, упирается в деньги. Подобные проекты по карману только людям с деньгами, то есть государству. Будь у Ле Корбюзье сильнее хватка, он добился бы финансирования для проектов еще интереснее павильона «Филипс». Но у него были другие цели. Так что я продолжал заниматься привычными архитектурными задачами, которые, к сожалению, не несли ничего нового с точки зрения архитектурной формы.
ХУО: Какими могли бы быть эти проекты?
ЯК: Самыми разными – по структуре в первую очередь, а также по организации внутреннего пространства. Но никому не было дела, и я оставил эту работу.
ФК: Ты начинал готовить проекты для Мишеля Ги, министра культуры, в Париже и для первого директора Бобура [центра Помпиду] Робера Бордаза, друга де Голля, по чьей просьбе ты создал первый «Политоп» в Монреале. Ты должен был организовать в Париже грандиозное шоу с лазерами. Тогда президентом был Жискар д'Эстен. Еще ты задумывал провести акцию по всем европейским столицам: чтобы везде одновременно зазвонили колокола.
ЯК: Верно. У меня напрочь все это вылетело из головы… Все, что не запишешь, забывается. ‹…›
ХУО: По поводу другого вашего нереализованного проекта, «Opéra de Robots» («Опера работов»), вы вели переговоры с Оливетти из Италии. Как родился замысел этой оперы?
ЯК: Я хотел использовать в постановке машины. Вот и все.
ФК: Ты об этом всегда мечтал. Ты познакомился с одним молодым человеком, активным культурным деятелем, спутником дамы из Французской академии в Риме. Он был знаком с Оливетти, который позже заинтересовался проектом. Вы даже ездили на завод роботов, но в конце концов вам так и не дали субсидии.
ЯК: Дело оставалось за немногим.
ХУО: По замыслу, роботы должны были взаимодействовать между собой или вы бы их программировали заранее? Вы бы полностью контролировали процесс?
ЯК: Контролировал, но и между собой они бы тоже взаимодействовали.
ФК: Ты хотел поставить оперу по «Битве Титанов». Это были бы роботы-боги, а не роботы-люди.
ХУО: То есть в течение оперы они должны были перебить друг друга?
ЯК: Нет, все бы уцелели.
ХУО: Какими вы задумывали их внешне? Техногенными роботами или, может, хотели придать им более скульптурную форму?
ЯК: Об этом мы даже не успели подумать.
ХУО: У меня остались еще вопросы по поводу ваших павильонов. Не могли бы рассказать о монреальском «Политопе» для выставки 1967 года?[36]
ЯК: Из этимологии слова понятно, что речь идет о «топосах», то есть о разнообразных пространствах. Я создавал «Политопы» как внутри помещения, так и под открытым небом. Иногда в плане звука «Политопы» внутри здания взаимодействовали с внешним пространством.
ХУО: По сути, нельзя назвать их архитектурными сооружениями. Скорее, это инсталляция или даже скульптура.
ЯК: Да, именно. «Политопы» больше похожи на скульптуру. Форма заключала в себе музыку и почти ничего не представляла собой снаружи. Важен был только свет, без него все теряло смысл. Я создал три «Политопа»: один в Монреале, один в Клюни и разобранный красный в Бобуре [«Диатоп»]. «Политопы» в Монреале и в Клюни находились в помещении, тогда как в Бобуре он должен был греметь на воздухе. Но в итоге он так и не открылся. «Политоп» в Монреале заказал Бордаз, директор французского павильона. В Клюни [1972–1974, в Термах Клюни, на развалинах галло-римских термальных бань в пятом округе Парижа] я создал «Политоп» по просьбе Мишеля Ги. Мы специально искали в Париже подходящее место. Именно Мишель Ги хотел, чтобы все происходило в Париже, как и Бордаз. В Клюни люди лежали на земле, а действие разворачивалось у них над головами. Зрители расслаблялись, смотрели и слушали музыку.
ФК: Было что-то невероятное. «Политоп» пользовался огромным успехом. Его рекламировали как кино, полтора или два года.
ХУО: «Политопы» дают зрителю всесторонний опыт чувственного восприятия. Расскажите о четвертом, «Политопе Персеполь» [ночной «Политоп», выполненный для фестиваля искусств «Шираз-Персеполь» в Иране на руинах древнего города, 1971].
ФК: Там были огни, костры и дети с факелами ходили среди гор.
ХУО: Этот «Политоп» был не такой долговечный и не требовал высоких технологий. Он включал звуковые элементы?
ФК: Музыку, конечно. Еще один устроили в Микенах, там бродили козы с огоньками на рогах[37]. И тоже горели костры. Удивительное зрелище. В первый вечер козы делали в точности что нужно. А на второй и третий им стали аплодировать, и они застыли как вкопанные.
Родился в 1930 году в Энн-Арборе, штат Мичиган. Живет и работает в Нью-Йорке.
Роберт Эшли, выдающаяся фигура современной американской музыки, обрел всемирную известность благодаря своим экспериментам с новыми формами оперы и участию в междисциплинарных проектах. Записи его произведений стали признанной классикой в искусстве музыкального сопровождения. Эшли – первопроходец жанра телевизионной оперы. В 1983 году для нью-йоркского центра искусства «The Kitchen» он поставил «Perfect Lives» – телевизионную оперу из семи получасовых серий – об ограблении банка, коктейль-барах, престарелых влюбленных, побеге подростков из дома и пр., – действие которых происходит в антураже равнин Среднего Запада США. Оригинальный стиль его опер отчетливо узнаваем и, несомненно, пронизан американским духом как в выборе тематики, так и в использовании художественных приемов.
Роберт Эшли учился в Университете Мичигана и Манхэттенской музыкальной школе. В Университете Мичигана он работал в лаборатории исследования речи (психоакустика и культурные особенности речи), а также был научным сотрудником направления акустики лаборатории архитектурных исследований. В 1960-х годах он стал сооснователем Объединенной студии электронной музыки и фестиваля современного сценического искусства «ONCE», который проходил в Энн-Арборе ежегодно с 1961 по 1969 год и на котором представили публике свои работы многие новаторы десятилетия. Эшли руководил музыкально-театральной труппой «ONCE», гастролировавшей по Америке в 1964–1969 годах. В тот же период он написал и поставил свои первые мультимедийные оперы, в том числе «That Morning Thing» (1967) и «In Memoriam… Kit Carson» (1963), и создал саундтреки к фильмам Джорджа Манупелли. В 1969 году Эшли был назначен директором Центра современной музыки при колледже Миллс в Окленде, штат Калифорния, где открыл первую публичную музыкальную медиалабораторию. Также он писал музыку для танцевальных трупп Триши Браун, Мерса Каннингема, Дугласа Данна и Стива Пэкстона.
Данное интервью, ранее не опубликованное, было взято в 2012 году во время одного из творческих вечеров «Park Nights» галереи «Серпентайн» в Лондоне.
ХУО: С какими деятелями изобразительного искусства вас связывают наиболее близкие отношения? Я знаю, что, к примеру, вы хорошо знали [Роберта] Раушенберга.
РЭ: Я познакомился с Раушенбергом в начале 1960-х, когда я пригласил труппу танцевального театра Джадсона на фестиваль «ONCE»[38]. Они приезжали дважды или трижды, и с ними был Раушенберг. Я предложил ему заняться оформлением сцены для оперы про последствия убийства Кеннеди, которую я хотел тогда поставить. Он согласился, и я много работал над ее созданием, но в итоге не смог добиться финансирования, и проект пришлось закрыть. Мы с Бобом продолжали видеться, и в 1965 году он пригласил меня вместе с группой «ONCE» в Нью-Йорк, чтобы мы сыграли три спектакля в церкви Джадсона. Мы представили мою оперу «Combination Wedding and Funeral» и мои же «Kittyhawk (An Antigravity Piece)» и «Joyroad Interchange» (все написанные в 1964 году). В последней я задействовал всех персонажей, каких только мог. Я собрал вместе человек 12–13, моих друзей, знаменитостей, в рамках одной сцены. После этого я не видел Боба семь лет. В 1969-м я начал работать в колледже Миллс, а в 1972 году один мой друг, основатель своего факультета в Университете Центральной Флориды, решил отдать художественную лабораторию Бобу и еще одному художнику и попросил меня подготовить открытие нового музыкального факультета, который должен был появиться вместе с лабораторией. К тому моменту я жил в Калифорнии всего пару лет и только начал руководить Центром современной музыки, поэтому отказался. Тогда я в последний раз встречался с Бобом по рабочим вопросам. В последующие годы мы периодически виделись как друзья – я приезжал к нему в студию и посещал открытия выставок.
ХУО: Если начинать по порядку, я хотел спросить: имело ли место некое откровение, озарение, в результате которого вы решили стать композитором?
РЭ: Откровение приходит к каждому музыканту, но в моем случае оно не стало громом среди ясного неба. Я постоянно слушал музыку и отчетливо понимал, что должен быть музыкантом, хоть и не знал, каким именно.
Я научился недурно играть на пианино, но становиться пианистом не хотел, а в композиторстве толком ничего не смыслил до 22 лет. Только потом, ближе к 25 годам, я решил стать композитором. Это было в 1950-х. То есть не могу сказать, что однажды меня «озарило». [Смеется.] Решение приходило постепенно.
ХУО: В великолепном интервью, которое вы дали Фрэнку Дж. Отери для мультимедийного журнала «New Music Box» [2001][39], вы рассказывали, что в молодости слушали джаз – Телониуса Монка, Майлза Дэвиса и других, но сами джаз сочинять не хотели. Кем были ваши кумиры, кто вдохновлял вас?
РЭ: Все американские мальчишки слушали джаз. Не знаю, как сейчас, но раньше было так. Джаз был самой близкой музыкой; мы знали о симфониях и тому подобном, но только джаз был настоящим, той музыкой, которую играли в клубах. Поэтому я слушал джаз, разучивал и любил его. Для меня было много важных музыкантов, пред которыми я преклонялся, – Билли Холидей, Телониус Монк, Бад Пауэлл… Потом, когда мне было уже за 20, я два года служил в армии и играл в джазовом квартете. Я понял тогда, что джаз мне уже не так интересен. Для себя я изучал Альбана Берга[40]. У меня не было наставников или учителей, но я умел читать партитуры, и его произведения завораживали меня – так красиво они звучали. Однажды, когда я еще не окончил университет, со мной случилась одна вещь: у меня была запись «Концерта для пианино, скрипки и 13 духовых инструментов» [1923], и я множество раз переслушивал его, но он никак не укладывался у меня в голове. И вот на меня снизошло то самое озарение: я включил запись, и неожиданно все стало ясно как день. Впервые я услышал концерт так, как, мне казалось, его слышал Берг.
ХУО: Примерно в том же возрасте вы впервые услышали полный симфонический оркестр.
РЭ: Да, я тогда жил в небольшом городке на Среднем Западе. Культурная жизнь там была не такая, как в Берлине, Вене или Париже.
ХУО: Значит, еще одно откровение. Что же произошло?
РЭ: Кажется, оркестр играл Чайковского. Я никогда не слышал раньше ничего подобного и просто заплакал. Это, конечно, тоже был важный момент.
ХУО: Интересно узнать, какой была первая работа в вашем каталоге-резоне – когда вы впервые почувствовали, что нашли свой язык, написав произведение?
РЭ: Где-то в 1960-м мне пришла идея написать сонату для фортепиано, в которой важна бы была не столько формальная структура, сколько последовательность нот, сыгранных на клавиатуре, – других инструментов в композиционной схеме не должно было быть. Целый год я подбирал сочетания нот на фортепиано, чтобы добиться разных гармонических резонансов. Идея может показаться избитой, но вообразите, что соната – это калейдоскоп: формы остаются практически неизменны, а цвета постоянно меняются. Мне всегда очень нравилось это произведение.
ХУО: Речь о «Сонате для фортепиано: Христофор Колумб направляется в Новый Свет на “Нинье”, “Пинте” и “Санта-Марии”, используя только навигационное счисление и примитивную астролябию» («Piano Sonata: Christopher Columbus Crosses to the New World in the Niña, the Pinta and the Santa Maria Using Only Dead Reckoning and a Crude Astrolabe») [1959–1979]. Отличное название! Как оно пришло вам в голову?
РЭ: Не знаю. Наверное, оно как-то связано с тем, что сонатная форма пришла в Америку из Европы. Это произведение было и остается интересным и выдающимся. Раньше только я мог сыграть его, такая сложная там партия. Наконец, спустя 15 лет после того, как я сочинил эту сонату, мой друг «Блю» Джин Тиранни[41] предложил ее записать, и я подготовил для него партитуру. Он записывал ее очень старательно, по одной фразе, а потом копировал и соединял части воедино[42]. Затем в 2004 году в Гаагской консерватории провели неделю моей музыки [Неделя Роберта Эшли в Гаагской консерватории], на которой пианист Рейнер ван Хаут взялся исполнить это произведение. Только он и Блю смогли сыграть его. Я предлагал эту сонату многим пианистам; она настолько сложна, что они лишь просматривали ее и возвращали. За последние два года я снова занялся ее нотацией, в современном виде. А именно перенес из рукописи в нотный редактор «Finale» на компьютере. В нем нельзя точно воспроизвести нужный звук, потому что, когда ударяешь по клавишам настоящего фортепиано, они резонируют с теми клавишами, которые ты в это время держишь зажатыми. Таким образом, получается сочетание тихих зажатых нот и нот, которые играются одновременно с ними. Поэтому я сравниваю свою сонату с калейдоскопом: окраска резонанса меняется непрерывно и очень, очень быстро, от ноты к ноте. Пока что не существует такой компьютерной программы, которая могла бы имитировать эти резонансы. В MIDI-фортепиано на компьютере их нет – нота либо звучит, либо не звучит.
ХУО: Вскоре после «Сонаты для фортепиано» вы начали работать с магнитной лентой. «Forth of July» [для магнитной ленты, 1960] – один из ранних примеров использования вами этой техники.
РЭ: Я хотел работать с электронным звуком и для этих целей оборудовал свою домашнюю студию. Студия была без изысков – просто небольшая комната с тремя магнитофонами для записи, на которых можно было использовать разные настройки, и еще пара хранилищ для ленты. В такой обстановке я начал заниматься электронной музыкой, и мне нравилось то, что у меня получалось. Я люблю звучание электронной музыки. В то время я еще пробовал работать с неэлектронными звуками, и у меня, по-моему, выходило неплохо, но в конце концов я оставил занятия инструментальной музыкой и полностью сосредоточился на электронике.
Позже, в начале 1960-х, я собрал вместе шесть или восемь близких мне друзей с красивыми голосами, хороших ораторов – большинство из них не были музыкантами, но имели желание учиться. Так возникла группа «ONCE». Она представляла собой что-то вроде музыкальной версии танцевального театра Джадсона. Эта группа реализовала новый взгляд на оперу, зародившийся на фестивале «ONCE», которым я руководил. Я написал для них пять опер и понял, что хочу продолжать работать в этом жанре.
ХУО: Сейчас вместе с художественной ассоциацией «Museum in progress» мы сотрудничаем с Венской оперой, где поручили нескольким современным художникам оформить противопожарный занавес. В процессе работы я изучил историю Венской оперы и, к своему изумлению, обнаружил, что, хоть на протяжении XX века ставились новые оперы, за последние 20–30 лет их количество значительно уменьшилось. Сейчас репертуар в основном повторяется. Ваши эксперименты с электронной музыкой словно дали опере иную жизнь.
РЭ: Для меня настоящим чудом было на протяжении пяти лет работать с группой людей, которые согласны были пробовать все, что я предлагал. После того как в 1968 году группа распалась, я ничего не писал около семи лет. Легко опустить руки, когда не встречаешь практически никакой поддержки своему творчеству…
ХУО: До этого вы закончили еще несколько проектов, в том числе оперу «That Morning Thing» (1967), великолепную своим новаторским замыслом. Вновь ее поставили на сцене только недавно – премьера состоялась в 2011 году, в нью-йоркском центре современного искусства «The Kitchen». «That Morning Thing» в некотором роде предвосхищала «Perfect Lives» [1977–1983][43]: вы создали новую форму оперы, в которой пение звучит как разговор, синтетические оркестровки похожи на эхо бессознательных мыслей, отсутствует линейное повествование. Спектакль создает ощущение, будто ты во сне. Идея такой оперы пришла к вам много лет назад, но теперь она актуальна как никогда и служит источником вдохновения для многих молодых композиторов и артистов. Не могли бы вы рассказать больше о «That Morning Thing»?
РЭ: Мы поставили «That Morning Thing» на фестивале «ONCE» в 1967 году. Затем, в 1968 году, ее представили в Токио на японском языке, а в 1970-м – в Центре современного искусства колледжа Миллс. После этого мне не выпадало случая ставить ее, да и не было желания. Так что я отложил ее на время, и вот в прошлом году нью-йоркская институция «Performa», основанная Роузли Голдберг в 2004 году, предложила мне поставить одну из моих работ в «The Kitchen», а именно «That Morning Thing». Так увидел свет еще один ее вариант, и вышло очень хорошо, в первую очередь из-за того, что при ранних постановках мы сталкивались с техническими сложностями и невозможностью реализовать некоторые вещи, а сейчас технически все стало гораздо проще. Во-вторых, молодые исполнители более восприимчивы к материалу, для них он уже не такой радикальный. Спектакль вышел замечательный, гораздо лучше тех трех, что я ставил сам.
Что касается «разговорного пения», я всегда считал, что английский язык не подходит для европейской оперы. На английском языке нельзя написать ничего и близко похожего на произведения Берга. В тех операх, что я ставил с группой «ONCE», реплики пелись в темпе разговорной речи, и при таком подходе английский язык раскрывает множество возможностей для исполнения, которые не услышишь больше нигде, кроме как в американской популярной музыке. Когда американские композиторы пытаются подражать итальянской опере, на мой взгляд, это звучит ужасно, и я еще не слышал ничего, что могло бы изменить мое мнение на этот счет. Со временем я все больше внимания уделял соотношению музыки и языка. В 1975 году я поставил телевизионную оперу «Music with Roots in the Aether»[44], в которой все главные герои – композиторы. Когда один из композиторов выходил на сцену, играла написанная им музыка.
В тот период, с 1968 по 1975 год, я посвятил время другим вещам: успешно занимался звукорежиссурой в киноиндустрии, много работал с фильмами и получал много денег. Потом я перешел в колледж Миллс и основал свою лабораторию, куда приглашал работать композиторов и местных деятелей. Я был доволен своей работой в те годы.
ХУО: В 1960-х вы написали еще одно важное произведение – «The Wolfman»[45] [1964]. Оно увидело свет практически случайно, когда Мортон Фельдман[46] отказался писать музыку для авторского концерта своего друга и попросил вас этим заняться. Можете рассказать о своей дружбе с Мортоном Фельдманом? И как создавался «The Wolfman»?
РЭ: Мы с Мортоном Фельдманом были хорошими друзьями. Я три раза брал у него длинные интервью[47] и говорил, что хочу написать о нем книгу.
В то время я много размышлял о том, что мы называли «откликом» помещения, – я изучал архитектуру [как научный сотрудник направления Акустики Лаборатории архитектурных исследований Университета Мичигана] и редактировал книгу об архитектурной акустике. Мне было интересно, как архитектура помещения влияет на звучание произведения. К примеру, на юге Франции и севере Италии есть сотни маленьких так называемых итальянских театров, и, несомненно, они приняли важное участие в становлении итальянской оперы. Я знал, что эта связь имеет место и в современном, индустриальном мире. То есть когда пишешь оперу, нужно в первую очередь понять, в каком помещении она будет ставиться и каковы его акустические особенности. Я пытался вычислить эту связь между оперой и архитектурой.
ХУО: В моем университете однажды читал лекцию Янис Ксенакис, и он рассказывал о своих представлениях-«Политопах»[48]: он стремился, чтобы его музыка звучала только в специально спроектированном пространстве. У вас не было таких задумок? Проектов музейных площадок, архитектурных сооружений, постоянных музыкальных инсталляций?
РЭ: Будь у меня для этого подходящее место, я бы с радостью работал над созданием опер в тандеме с архитектурой, но такого места у меня нет и не предвидится – денег едва удается достать для одной только постановки оперы… Такое возможно в Европе, но не в Америке. Разве что в меньших масштабах, вроде инсталляции «Dream House» Ла Монте, которая занимает всего одну комнату.
ХУО: Ксенакис хотел, чтобы опыт слушателя был близок к опыту зрителя в музее: чтобы он мог ходить по залам, ложиться на пол и в результате получить многогранное впечатление.
РЭ: Что ж, я не мог себе позволить такой мечты. Тем не менее мы с двумя друзьями, которые разделяли мой интерес к архитектуре, разработали проект под названием «Лаборатория исследования сценического искусства». Начальный капитал мы получили от Фонда Форда, но, к сожалению, не смогли найти поддержки от университетов или кого-то еще, так что дальше стадии проекта и идеи мы не продвинулись. Мы планировали приглашать творческих деятелей и архитекторов со всего мира, чтобы они исследовали как раз те вопросы, которые вы сейчас задаете: если б у тебя было идеальное архитектурное пространство для работы, как бы оно выглядело?
ХУО: И каким же вы его себе представляли?–
РЭ: В Европе в то время были популярны театры-«черные ящики», которые придумал Адольф Аппиа[49]. В них можно было менять что угодно в любой момент спектакля. Но для меня они бы не подошли. Я бы хотел иметь возможность выбирать, где я хочу поставить свое произведение – в огромном пустом помещении или, может, на природе, среди гор?…
ХУО: В немецком городе Хальберштадт сейчас воплощается долгосрочный проект Джона Кейджа [«Organ²/ASLSP (As SLow aS Possible)»], который должен продлиться сто лет. Это самое медленное произведение Кейджа и самый медленный концерт в истории. Его исполняют в церкви [Святого Бурхарда]. По указаниям Кейджа, длительность ноты составляет около пары недель. Судя по всему, этот концерт будут играть до следующего века. Вы слышали о нем?
РЭ: Об этой композиции я не слышал, но и я, и все мои друзья восхищались Джоном Кейджем. Нас вдохновляло, как настойчиво он исполнял свою музыку везде, где только мог. Джон и еще несколько человек изменили музыкальный ландшафт Америки – они просто ездили по стране и давали концерты, не дожидаясь заказов. Тот период, начало 1960-х годов, кардинальным образом повлиял на американские музыкальные веяния. Ну и, разумеется, у Джона играл Дэвид Тюдор[50], один из величайших пианистов всех времен.
ХУО: Я так понимаю, в основе их деятельности лежал принцип «сделай сам».
РЭ: Да, так работал и Джон, и я, и Берг.
ХУО: В изобразительном искусстве таким принципом известно в первую очередь арт-движение Флуксус. Как вы были с ним связаны?
РЭ: Мне очень нравился Джордж Брехт – и он сам, и то, что он делал. По-своему мне был симпатичен Робер Филью. Движение Флуксус привлекло меня тем, что их подход к искусству заставлял задуматься о новых возможностях. В отношении музыки эту идею несли их концептуальные работы, например книга «Нарисуй прямую линию и иди по ней» («Draw a straight line and follow it», 1960) Ла Монте Янга.
ХУО: А вы сами пробовали писать руководства?
РЭ: Да. Пять лет назад я написал книгу, где изложил свои идеи в музыке и проиллюстрировал их большим количеством примеров и отрывков. Книга называется «Вне времени» («Outside of Time») [Ed. «MusikTexte», Cologne, 2009][51]. Главная проблема любого руководства – это то, что ты не можешь взять и сыграть по нему. Можно попытаться, но даже чтобы приблизиться к попытке, придется думать самому. Одна только идея, вроде «нарисуй линию и иди по ней» – это просто красивые слова.
ХУО: Джон Кейдж говорил об «открытых партитурах», и эта идея очень интересовала и вдохновляла Флуксус. Вы почти никогда не записывали свои партитуры. Ваши оперы ставились по партитурам, которые вы держите в голове. Вы могли бы их назвать «открытыми»?
РЭ: Нет. «Открытым» партитурам место скорее в нью-йоркской художественной галерее.
ХУО: Вы держите партитуры в голове, и при этом их нельзя назвать «открытыми»?
РЭ: Когда мы с «ONCE» ставили оперы, которыми я так горжусь, может, я что-то записывал на клочках бумаги, рисовал схемы, но в основном я просто рассказывал, что нужно делать. Меня слушали, задавали вопросы, и все становилось ясно в ходе обсуждения. Как в джазе. Джаз не читают, его играют!
ХУО: И то верно! Но как же их будут играть в будущем? По мнению Пьера Булеза, у которого я брал интервью, в будущем музыку можно будет играть, только если знать «партитуры партитур».
РЭ: Когда оперу «Perfect Lives» ставили вновь, у меня была возможность лично все объяснить труппе. Кроме того, у них были обзорные материалы, пара текстов из нее и комментарии.
ХУО: Но как ее поставят через 100 лет?
РЭ: Это меня совсем не заботит.
ХУО: Что же, значение имеет только настоящий момент?
РЭ: Что я стараюсь передать другим поколениям, так это отношение, атмосферу, в которых рождаются новые идеи. Своим подходом Булез запирает за собой двери, и идущим следом будет тяжело в них прорваться. Мне принципиально чужда такая позиция. Я стремлюсь к тому, чтобы спустя 20 лет другому композитору благодаря моей работе легче, лучше и интересней давалось его собственное творчество.
ХУО: То есть ваша работа – это кислород для будущего?
РЭ: Я хочу сказать, никто ведь не обязан играть мои произведения – да и зачем это делать? Европейская музыка за последние 300 лет стала сродни глобальному потеплению: ее написано слишком много. Нам было бы гораздо проще, если б мы не оглядывались на первоисточники. Поколениями джаз был спонтанной музыкой, и указывать заимствования было совсем не обязательно, но потом несколько дураков решили, что американский джаз должен считаться классической музыкой. Как результат, перед молодыми музыкантами захлопнулась дверь, и в конечном счете джаз умер. Я решительно не хочу такого исхода. В прошлом году, помимо Алекса Уотермена, который режиссировал «Vidas Perfectas» [испанская версия «Perfect Lives», 1979–1980], «Perfect Lives» в совершенно новом виде поставила замечательная группа молодых композиторов «Varispeed» из Нью-Йорка. Они исполняли эпизоды в том месте и в то время, как это указано в ремарках. Например, место действия эпизода «Парк» – парк, 11 часов утра, и они шли в Бруклинский парк и исполняли его там. Так же «Супермаркет», «Гостиную», «Церковь» и остальные.
ХУО: Получается, значение имеет только общий замысел произведения. Можно ли сказать, что в случае «Perfect Lives» замысел состоит только в семи диалогах, которые составляют структуру оперы, но и эти диалоги тоже можно изменить?
РЭ: «Varispeed» сохранили текст, но сами написали музыкальное сопровождение, а кое-где вообще обошлись без него.
ХУО: Расскажите, как возник замысел оперы «Perfect Lives»?
РЭ: Я работал в киноиндустрии и помогал одному независимому кинопродюсеру. Однажды он сказал мне, что его любимый фильм – «Волшебник страны Оз» (1939), лента, классически известная в Америке количеством трудностей, возникших при съемках. Он попросил меня написать современную ее версию. Я принялся за работу и написал несколько сцен с тремя персонажами. Я работал полгода, но потом стало ясно, что мой друг не сможет спродюсировать этот фильм. Я остался с готовыми сценами на руках и не хотел, чтоб они пропали даром. Я начал переделывать сценарий и добавил нескольких персонажей. А затем со мной связались «The Kitchen» и предложили поставить телевизионную оперу. В итоге материал, над которым я работал, превратился в «Perfect Lives». В общем, я использовал то, что уже написал, где-то изменил форму, где-то риторическую структуру. Я переработал замысел «Волшебника страны Оз», и получилась «Perfect Lives».
ХУО: Как появилось это название?
РЭ: Это название воображаемого места где-то в Америке, где все счастливы, все друг друга любят. Никто не может сделать ничего плохого, и, значит, каждая жизнь – идеальная.
ХУО: Своеобразная Утопия?
РЭ: Нет… идея этого места более духовная, буддистская. Там все счастливы быть самими собой и рады тем, кто их окружает. Вот уж действительно нереальное место!
ХУО: Интересна форма этой оперы: с одной стороны, это партитура – или либретто – и вместе с тем литературное произведение.
РЭ: Композитору или музыканту различные литературные формы семи эпизодов дают простор для фантазии. Если же кому-то музыка неинтересна, «Perfect Lives» можно прочесть как литературное произведение. Но если вы музыкант, вы увидите в ней основу для музыкального творчества. Не существует единой формы «Perfect Lives», она – инструмент, которым каждый может пользоваться по своему усмотрению.
ХУО: Также в ней отсутствует линейное повествование…
РЭ: Ну, знаете, довольно сложно сохранять линейное повествование на стольких страницах. Для линейного повествования это слишком долго!
ХУО: Над чем вы работаете сейчас?
РЭ: Я только недавно закончил работать над оперой, поставленной по роману, но без «перестановки мебели» в самом романе. Чаще всего, чтобы адаптировать роман под оперу, приходится менять местами части, подстраивать действия под пропорции либретто, вносить много изменений. Мне стало интересно попробовать поставить оперу, которая имела бы структуру романа, от первого и до последнего слова, и посмотреть, как это скажется на музыке. Либретто этой оперы полностью совпадает с текстом романа. Она называется «Quicksand»[52].
Родился в 1932 году в г. Томасина, Мадагаскар. Живет в Париже.
Франсуа Бейль – выдающийся французский композитор в жанрах конкретной («musique concrète») и акусматической музыки. Учился у Оливье Мессиана, Пьера Шеффера и Карлхайнца Штокхаузена. В 1966 году он возглавил Группу музыкальных исследований (Groupe de Recherches Musicales, GRM), коллектив композиторов электроакустической музыки, основанный Пьером Шеффером. В 1975 году GRM объединилась с молодым Национальным аудиовизуальным институтом (Institut National d'Audiovisuel, INA), которым Бейль руководил до 1977 года. За эти годы Бейль организовал множество концертов, радиопередач, семинаров и мероприятий в честь композиторов, а также способствовал технологическому прогрессу и был непосредственно причастен к созданию таких инновационных явлений, как «Акусмониум» и звукозаписывающего лейбла «INA-GRM».
Данное интервью, ранее не опубликованное, было взято в 2003 году в Париже.
Перевод с французского Кэтрин Темерсон.
ХУО: Я хотел бы начать с интересной темы, которую вы часто поднимаете в интервью, а именно, что вы не используете нотацию. Вы говорите, в ней нет смысла, это просто рисунок.
ФБ: Конечно. Ты создаешь музыку своими руками, как художник или скульптор, только из нематериальной субстанции, и нотация тут совершенно бесполезна. Сотворенная тобой сущность слишком сложна, чтоб ее можно было записать на бумаге; в этом суть искусства, которое я называю конкретным: оно свободно от упрощений, к которым приводит нотация. Когда пишешь музыку, у тебя не должно быть никаких установок, кроме непосредственного, живого опыта, ты следуешь чувству, которое сродни инстинкту выживания, следуешь эмоциям, бессознательному, используешь автоматическое письмо, жесты тела, перевоплощенные в идеи. Естественно, у каждого творца есть идеи, но в первую очередь есть тело, а идеи рождает именно тело. Разумеется, нам кажется, что мы забываем про тело, когда сосредоточиваемся на идеях; для нас тело – это подводная часть айсберга, и мы помним только о видимом мире идей. Но нет тела – нет и идей. В этом суть нового пространства, нового плацдарма для музыки: нужно работать непосредственно со звуком, ведь его можно хранить как медиаобъект, а значит, можно работать с ним, как художник с холстом. Мы работаем с отрезком времени, который стал пространством, – ведь время, преобразованное в материю, становится пространством, но все же остается временем. Оно превращается в пространство, которое путешествует во времени. Время – самая дорогая вещь, ведь это время нашей жизни, время нашего внимания, время тока крови по венам, это самая дорогая вещь на свете! Когда музыка не играет, важно иметь ее графическую модель, чтобы оценить ее в другом темпе, понять, сколько она будет длиться. К примеру, когда у тебя есть партитура, ты можешь бегло проглядеть ее, взглянуть на мотив, задержать на чем-то внимание, пропустить десять страниц, увидеть повторение мотива – может, не совсем точное, не в том же месте, – можешь листать назад и вперед, сравнивать; таким образом, ты отрываешься от времени прослушивания, ты оцениваешь музыку как программу, как карту метро. Когда садишься в метро, смотришь на карту и думаешь: до места назначения можно добраться разными путями. Но если мне надо по пути заглянуть на такую и такую станцию, то и маршрут я построю соответствующим образом.
ХУО: То есть каждый раз ты выбираешь разные пути?
ФБ: Да, именно! В случае с партитурной музыкой тебе тоже необходимо освободиться от времени, иначе ты не сыграешь вживую. Это проблема исполнения, но проблема нотации как раз ровно в противоположном.
ХУО: Когда вы перестали пользоваться нотацией?
ФБ: Почти сразу. Сначала я писал музыку как все, с графической нотацией. Но потом я слушал результат и понимал, что он недостаточно хорош и добиться я хотел совсем другого. Меня все больше интересовало пространство в музыке. Мне повезло, что как раз тогда появилась электроакустическая музыка, поэтому проблем технического характера у меня не возникло. Я нашел судно, сопутствующее моим переменам в жизни, и взошел на борт.
ХУО: В каком году это было?
ФБ: В 1955-1960-х годах. Потом я учился у [Карлхайнца] Штокхаузена, с 1960 по 1962 год.
ХУО: После того, как прошли обучение у [Пьера] Шеффера?[53]
ФБ: Да, сначала я познакомился с ним. До Шеффера самым первым моим учителем был Оливье Мессиан. Он открыл для меня традиционный музыкальный мир. Но встреча с Шеффером стала поворотной. Я работал с ним в Центре музыкальных исследований и стал его преемником на должности, которую я покинул пять или шесть лет назад – в 1997-м. Сорок лет я работал в этой сфере, и около 12 из них – с Шеффером. Он ушел в 1975-м и умер в 1995 году; мы виделись время от времени, но все уже было по-другому. Шестидесятые стали временем музыкальных авантюр и открытий: знакомство с Кейджем, Флуксус, изобразительное искусство, танцы, хеппенинги, алеаторическая музыка, индетерминизм, конкретная музыка… все эти творческие и социологические явления вдохнули в музыку новую жизнь. Мне посчастливилось быть современником того периода, полного удивительных событий, совсем не похожего на унылое время, в которое нам приходится жить сейчас.
ХУО: Много сказано было про музыкальную жизнь в Нью-Йорке, Джона Кейджа и колледж «Блэк Маунтин», в то время как о Шеффере и его окружении в Париже в те же годы известно гораздо меньше. Словно случился пробел в памяти. Мои студенты даже не знают, кто такой Пьер Шеффер. А ведь это тоже был невероятный период, когда сходились воедино различные виды искусства, архитектура и наука. Можете рассказать о том времени, об основных фигурах? Был ли Шеффер главной звездой созвездия, как Кейдж, вокруг которого разворачивалась вся деятельность? Как пересекались между собой сферы искусства?
ФБ: У Кейджа, конечно, другая история. Он был артист, жил с Раушенбергом, Каннингемом… Его окружала совсем другая среда. Во-первых, американцы пользовались свободой, отсутствием цензуры и радовались инновациям, чего европейцы не могли себе позволить, особенно после опустошительной войны. Европейский человек всегда несет на плечах груз традиции. Даже когда война закончилась, Булез первым делом ринулся восстанавливать имена Шенберга, [Альбана] Берга[54] – иными словами, обратился к прошлому, к болезненному прошлому, запрещенному цензурой, и вернул его из забвения. А Штокхаузен тем временем, уже с 1960-х, начал поиски нового. Кейдж и подавно; он хоть и знал Шенберга лично, ему неинтересно было возвращаться к нему. Для Кейджа в 1960-х Шенберг уже безнадежно устарел, тогда как Булезу он представлялся вновь актуальным. Между ними была огромная пропасть. Вокруг Шеффера образовалось культурное брожение: новый кинематограф, анимация, например Жака Бриссо, Петра Кемлера, Робера Лапужада – последний был покадровым художником, с которым мы сделали несколько проектов, в том числе «Trois portraits de l'oiseau qui n'existe pas» («Три портрета птицы, которой не существует», 1964).
ХУО: Это книга?
ФБ: Нет, это фильм. Каждый кадр – отдельный рисунок, горизонтальный рисунок. Он рисовал птицу и фотографировал изображение, рисовал еще раз и снова фотографировал. В итоге рисунок начинает двигаться, оживает, птицы улетают, возвращаются и т. д. Каждый стоп-кадр, который он потом фотографировал в высоком разрешении, – это произведение Лапужада. Если продать их все по отдельности, то из восьмиминутного фильма выйдет целое состояние! Для нас особенный интерес представляло соотношение музыки и анимации, смешанное восприятие очень быстрого визуального ряда и очень быстрого, сложного акустического сопровождения. Вокруг Шеффера сформировался круг людей, которые вели исследования в этом направлении; в отличие от Кейджа, вокруг которого крутился мир эстрадных артистов, сцены, светской жизни. Шеффера окружали университетские исследователи с инженерным складом ума, которые работали в студиях радио и телевидения. Царила совсем другая атмосфера. Булез и концертное общество «Домен Мюзикаль» принадлежали к миру признанного авангарда, они вели светскую жизнь, появлялись в салонах мадам [Сюзан] Тезенас – жены очень богатого человека – и на подобных мероприятиях. У Шеффера не было никакой особенной атмосферы, работа шла в техническом, институтском ключе: правила игры были совсем иные, никто не мог позволить себе дурачиться. Другие нравы, другой образ жизни. Работа шла очень активно, напряженно, искрило электричество; с 1968 по 1975 год я спал едва ли больше двух-трех часов в сутки, столько ждало дел. С нами работал Пьер Анри (р. 1927), первый композитор конкретной музыки наряду с Пьером Шеффером – можно сказать, величайший, потому что Шеффер был все же больше изобретателем, нежели композитором. Анри обладал безграничной фантазией, и он, кстати, все еще жив и постоянно что-то пишет. У него сложный характер, с ним тяжело найти общий язык, но его воображение потрясает. Он и Штокхаузен, без сомнения, два самых плодовитых композитора нашего времени, два величайших. Может, только через пару веков с расстояния времени мы сможем оценить по достоинству масштаб их наследия.
ХУО: Вы назвали Пьера Анри и Пьера Шеффера двумя фигурами, стоящими у истоков конкретной музыки. Существует также конкретная поэзия, и я брал интервью у многих поэтов этого жанра, в том числе у [Юджина] Гомрингера, который сотрудничал с Максом Биллом. Нужно еще упомянуть Аугусто де Кампоса, великого бразильского автора конкретной поэзии. В изобразительном искусстве тоже есть течение конкретной живописи, среди представителей которой Арелия Немур и вышеупомянутый Макс Билл. Начало вашей деятельности стало знаменательным моментом для конкретного искусства во всех дисциплинах. Были ли вы как-то связаны с происходящим в других видах искусства по всему миру?
ФБ: Почти никак. Во Франции на таких, как мы, лежало проклятие, на всех нас. Сначала нас благословил Мессиан, и удача повернулась к нам, а потом проклял Булез. Мессиан, как Папа Римский, благословлял всех: сначала Булеза, затем Штокхаузена; он благословил Ксенакиса, их полную противоположность; благословил Шеффера, Анри и меня, и других. Он открывал перед нами дороги. Он видел личности, видел, как сильно мы не похожи, но при этом страстно преданы своему делу, и понимал, что мы готовим свое самобытное поле творчества – неблизкое ему самому, но понятное на интуитивном уровне. Мессиан предчувствовал, какие там сокрыты удивительные тайны. Он самозабвенно подталкивал нас: «Делай, смотри, что получится, пробуй, не останавливайся». Но благословение, дарованное Булезу, дарованное Шефферу и Анри, породило проклятие. Булез и Шеффер проклинали друг друга – у них обоих были очень, очень критичные и агрессивные характеры, они постоянно третировали друг друга. Один говорил: «Какая ерунда, о чем он только думает». Другой ворчал: «Я как раз занимаюсь делом, а вот он – черт те чем». Авторы звуковой и леттрической поэзии составляли уже третью группу. Шеффер ее поддерживал, потому что радио интересовало все, связанное со звуком, в том числе и звуковая поэзия. Но позже он ушел в исследовательский отдел и стал изучать соотношение звука и изображения; к музыке он потерял интерес, как и к звуковому искусству в целом.
ХУО: Так начался процесс разделения дисциплин.
ФБ: Точно. Его не избежал даже Ксенакис, человек, к которому я отношусь как к брату – мы гораздо ближе с Ксенакисом, чем с Булезом, ведь Ксенакис придумал звуковые массы и звуковые скорости – концепции, принципиально противоположные серийной технике. Но и с ним мы в конце концов разругались – он не хотел с нами сотрудничать, хотел жить один на своей планете и один совершать все открытия.
ХУО: И в этом еще одно отличие от Нью-Йорка. Там постоянно возникали совместные проекты, люди сотрудничали друг с другом.
ФБ: Верно. Европейцы, в особенности французы, всегда соревнуются друг с другом – почему так, из-за груза традиций или из-за низкого спроса? Позиций и правда очень мало, и те, кому удается их занять, невольно отнимают такую возможность у других. Мы сталкиваемся с проблемой лидерства, проблемой власти. Власть эта микроскопическая, она не дает никаких денег, однако все равно приносит известность. За известность люди убьют родных мать с отцом. Мне повезло в целом избежать этой агрессии; мне тоже приходилось выпускать шипы, но не часто, ведь я принадлежал уже к другому поколению. К сожалению, не могу сказать, что деятелей часто что-то связывало, скорее, наоборот. Это не отменяло взаимного уважения, потому что в остальном все внимательно следили друг за другом. Чего стоит Мишель Шион (р. 1947) – композитор, автор музыки для фильмов, очень интересная личность; он лучший представитель конкретной музыки в ее связи с конкретной поэзией. Он тоже очень вздорный и трудный человек, чуть что, сразу выходит из себя. Европейские творческие деятели до ужаса раздражительны, или, может, именно выходцы из Парижа, не знаю. Наверное, это результат кризиса власти, нехватки власти. Об этом всем не очень приятно говорить, но пусть даже было так, людям все равно удавалось построить карьеру: может, это их как раз и разжигало и побуждало упорно работать. Конечно, было сложно воплощать инновационные замыслы, но это не останавливало их. Пьер Анри стал великим творцом, Мишель Шион – автором прекрасных произведений, я тоже смог внести свой вклад, Исследовательский отдел [Французской студии радио- и телевещания (RTF)][55] проделал великолепную работу. Ксенакис прошел удивительный творческий путь, хоть ему и пришлось столкнуться с противодействием музыкального мира. Его нельзя назвать музыкантом, при этом он постоянно писал произведения для оркестров – вот парадокс! Его партитуры на первый взгляд невозможно было сыграть, но поскольку он обладал чувством архитектурной точности, в итоге все звучало идеально, и он проложил путь для многих великолепных произведений.
ХУО: Вы сказали, что только через века можно будет оценить по достоинству важность Штокхаузена и Анри и их творческую плодовитость…
ФБ: Они трудятся без передышки.
ХУО: Но чем еще они увековечат свое имя, помимо количества написанных произведений? Новаторской мыслью?
ФБ: А почему они так плодовиты? Можно сказать, у них очень быстрый творческий метаболизм. Они не предаются размышлениям, они прокладывают борозду напрямик, движутся вперед. Они не из тех, кого останавливает тревога. Наверняка у них тоже бывали периоды сомнений, но, по крайней мере, они не начинают всем об этом рассказывать. А ведь их наверняка временами что-то да гложет. Но по тому, как они держат себя, видно, что они каменно уверены в своем таланте и потому так смелы и решительны, чего не скажешь о Булезе или даже [Лучано] Берио, которые написали гораздо меньше, снедаемые сомнениями, переделывая каждую партитуру и годами отмалчиваясь. Я не говорю, что одно лучше другого, в молчании, может, даже больше творчества. Для творца все есть созидательный процесс, даже бездействие – взглянуть, например, на Дюшана. Для творческого человека молчание – это созидание, это осознанный поступок. Так что не будем сравнивать плодовитых авторов и тех, кто пишет не так много. А если бы нам уж пришлось сравнивать, то выше следует ставить тех, кто требователен к себе, кто отдает себе отчет в своих приоритетах и все лишнее отметает, оставляя только самое главное. Невозможно сортировать творческих людей. Я только хотел сказать, что нам пока не все известно о трудах Пьера Анри или Штокхаузена, потому что мы не видим их, их не публикуют, они не вписываются в мир стандартной продукции; возможно, еще потому, что их авторы подвержены мании величия и отказываются сотрудничать с издателями и организаторами. Они не играют по правилам и из-за этого лишают нас возможности оценить их наследие. О том, что они написали за свою жизнь, мы узнаем только потом. Это нелепая проблема, но от нее никуда не денешься. Кому-то лучше удается с ходу продавать свои работы. [Дьердю] Лигети, например, легко продавал свою музыку – она хорошо звучала и не вызывала вопросов: никаких трудностей при исполнении, понятная структура, гладкая подача. Потому он и пользовался спросом. Это не значит, что у него не было таланта, наоборот, он выдающийся музыкант. Но он отчетливо понимал, какими располагает возможностями. А кто-то говорит: «Меня не волнует, что возможно, а что нет, мне важно раскрыть произведение во всей его полноте; что до возможностей, то кто-нибудь другой об этом подумает, найдет выход, а если не найдет, в будущем найдет кто-то еще». Дело в отношении.
ХУО: Я бы хотел побеседовать о фильмах и анимации. Меня удивляет, что во всей истории кино не было полноценного сотрудничества между музыкантами и кинематографистами. Есть только несколько примеров совместных работ. Доводилось ли вам участвовать в подобных проектах и какое развитие получило ваше исследование связи между звуком и изображением, которое вы начали во время работы над мультипликационной картиной?
ФБ: Полномасштабное видео – это совсем не то же самое, что кино. В отличие от кино в привычном нам смысле, такое видео подразумевает работу над временем, над восприятием и над гибкостью воображения. Кино – повествовательное явление; по сути, это просто персонажи, обстановка вокруг них и сюжет. В центре стоит сценарий, а значит, музыка неизбежно становится лишь одним из многочисленных компонентов, одним из элементов декора. Ее задача – расширить картинку и добавить ей многогранности. Музыки в кинематографе не существует, существует только картинка, которая создает сама себя как раз за счет изображения и звука. Когда мы слушаем музыку в кино, мы на самом деле не слушаем, а продолжаем просто смотреть на экран. Музыка только добавляет полноты в восприятие изображения. Но мы по-прежнему смотрим на него. Мы не закрываем глаза и не говорим себе: «А сейчас я буду слушать». Совместные проекты были. Их было много, но все их можно сравнить с сотрудничеством режиссера и декоратора, или костюмера, или реквизитора, или, в лучшем случае, главного оператора. Я думаю, у режиссеров никогда не было настолько же тесного сотрудничества с музыкантами, как с операторами, ведь операторы – ключевые фигуры: они отвечают за то, что мы видим. Между ними и режиссером существует непрерывная связь. В каждую секунду съемок оператор и режиссер в равной степени вовлечены в процесс. Музыку накладывают позже, во время окончательного монтажа, а не на съемочной площадке. Я считаю, самый удачный пример единения композитора и режиссера – это, конечно, союз Феллини и Нино Рота. Их миры дополняют друг друга, как супружеская пара. Они полностью на одной волне. Есть и другие примеры, но никто другой не смог достичь настолько изумительных результатов: они оба в равной степени вложились в этот проект. Нельзя представить себе фильм Феллини и не подумать о музыке Рота, невозможно слушать музыку Рота и не видеть перед глазами кадры фильма Феллини.
Когда в 1960-х годах Шеффер предложил дополнить конкретную музыку визуальными образами, он имел в виду не кинематограф, а анимацию. На очень недолгий период времени, три или четыре года, у «седьмого искусства» появилась альтернатива – «искусство семь-бис». Даже проводился фестиваль «Le septième art bis» («Другое седьмое искусство») – фестиваль мультипликационного кино, снятого покадровым способом. Мультипликация – это совсем другое искусство, и в смысле концепции, и по методу исполнения. У нее куда больше общего с композиторством. Ей бывает нужна своя партитура – раскадровка. Это что-то вроде комикса, но с совершенно иным течением повествования. Здесь повествование ближе к пластическому искусству, музыкальному, ритмическому… В тот период музыкантам удавалось плодотворно сотрудничать со специалистами по мультипликации. Ведь нарисованные изображения не могли жить в тишине, им нужно было звуковое сопровождение, ритмическая основа, тембры, паузы. А мы, музыканты, решили, что подобный визуальный ряд дает слушателю великолепный дополнительный стимул к восприятию музыкального произведения. Прослушивание выигрывало от картинки, и наоборот. Однако обстоятельства производства, вкус аудитории и, я сказал бы еще, сложность процесса создания подобных фильмов привели к тому, что тот период продлился всего несколько лет.
А после жизнь вернулась в привычное русло. Вернулись повествовательные фильмы вместе с их героями. В то время в кинотеатрах перед картиной показывали короткометражку – в наши дни такого нет. А перед ними иногда вставляли короткие мультипликационные фильмы, длиной четыре-пять минут. Сейчас, когда идешь в кино, видишь пережитки тех времен – то бишь рекламу. Она стала подлинным искусством, приняла на себя функцию короткометражных и мультипликационных фильмов и, конечно, будучи финансовым медиумом, заботу о деньгах. Для ее создания требуется глубокое понимание образов, потому тебе нужно виртуозно повлиять на ход мыслей зрителя и очень быстро описать вещь, используя в кадре красивую женщину, движение, продукцию, дождь, ветер и т. д. Во всех рекламах машин показывают Сахару и Великую Китайскую стену. Вот что пришло на смену. Вакантное место также занял видеоарт, видеоартисты начали сотрудничать с музыкантами.
ХУО: Ваши рисунки на стене – это партитуры?
ФБ: Нет-нет. Это личные наброски, которые я сделал для своего звукозаписывающего лейбла. Я бы хотел, чтобы моим работам предшествовал некий зрительный образ на обложке, связанный с содержанием. Мне кажется, произведение и упаковка должны резонировать: какой-то сигнал должен предварительно настраивать слушателя. Одного заголовка и обычной графической формы мне кажется мало. Так что я развлекаюсь, ни на что особенно не претендуя. Это наброски именно для моих записей. Я хочу быть автором всего, в том числе и дизайна обложки. Если можешь, всегда лучше все делать самому.
ХУО: У вас целая серия таких рисунков. Я видел их в парижском Музыкограде (Cité de la musique).
ФБ: Да, я сейчас работаю над пятнадцатым томом.
ХУО: Как вы начали заниматься звукозаписью?
ФБ: Я основал лейбл и начал искать источники финансирования. Сначала я вложил собственные деньги; со временем появлялись другие источники, а теперь он самоокупается: на прибыль от проданных записей мы издаем следующие. Дела идут неплохо.
ХУО: Вы все делаете сами?
ФБ: Да, мы с женой. Мы же исполняем роль графических дизайнеров. Когда я руководил «INA-GRM», я был в ответе за все записи, за первые записи конкретной музыки; например, я уже тогда записал композиции для лейбла «Prospective XXIe siècle» («Перспектива XXI века»), который я и Пьер Анри основали совместно с компанией «Филипс» [1967][56].
ХУО: В наше время эти пластинки снова вызывают интерес у художников. Так значит, это вы рисовали?
ФБ: Да, я даже придумал концепцию «конверта», чтобы сократить расходы: конверт делался из сложенной бумаги, на которую наносили печать только с одной стороны. Таким образом, двойной конверт стоил копейки. Я запатентовал изобретение и выпустил целый ряд записей, тогда еще с 33 оборотами в минуту. На этих пластинках были произведения Анри и Ксенакиса с его страсбургской перкуссией.
ХУО: Обложки у тех записей обычно были в серебристо-серых тонах.
ФБ: Точно, серебристые обложки, так мы их задумали. Авторы сами предложили эту достаточно модернистскую идею. В то время – после 1968 года – XXI век казался далеким, как Луна, никто не думал, что вообще доживет до него. Но оказалось, он был очень близко. XX век пролетел так незаметно… Нам казалось, еще так много времени. [Смеется.] Тогда он казался нам пирамидами, пирамидами модернизма…
ХУО: Мы сейчас на вашем рабочем месте. В ходе серии моих интервью с композиторами я каждый раз поражаюсь тому, насколько важны студии. К примеру, во времена Булеза или Штокхаузена требовались большие студии, как в Баден-Бадене. Была целая сеть таких студий, задуманных как лаборатории, как рабочие мастерские.
ФБ: Да, в то время оборудование было очень громоздкое, очень тяжелое и дорогое. Студии требовали расходов, как целое учреждение, к тому же в них работала команда персонала: техники и другие специалисты. С современными технологиями студию за разумные деньги можно оборудовать у себя дома, и выйдет не дороже, чем купить машину. А машины есть у всех, даже у бедных. Композиторы – бедные люди, поэтому вместо машины они покупают себе собственное рабочее пространство. Я всегда говорил, что для творца главное – иметь собственное место для работы.
ХУО: У вас есть такая автономность?
ФБ: Да, я обустроил свою студию. Во времена, когда я руководил GRM, одним из условий работы было пользоваться только такими программами для работы со звуком, которые композиторы могли скачать на свои «Макинтоши» и работать из дома. Чтобы они не были в зависимом положении, и им не приходилось обивать пороги кабинетов и иметь дела с бюрократией. Мне довелось работать в администрации, и я ненавидел бюрократию. Наверное, я подцепил этот вирус от Шеффера. В те дни, когда мы работали вместе с ним, в административных учреждениях мы чувствовали себя пиратами. У нас был совсем не бюрократический склад ума, но мы понимали, что путь к влиянию лежит через институты. Так, мы проникли в администрацию через черную дверь и притворились бюрократами, однако смогли создать вокруг себя совсем иную атмосферу. Мы старались разрабатывать только такие программы, которые могли бы функционировать и вне стен этого института.
ХУО: У вас получилась партизанская стратегия.
ФБ: Вот именно. Администрация смотрела на это с неодобрением и считала нас опасными и нежелательными элементами. Нам постоянно угрожали, но поскольку мы со своей работой справлялись вполне успешно, а вот те, кто нам угрожал, – не очень, они в итоге и оказались на улице!
ХУО: Я хотел бы вернуться к теме рабочего пространства, лаборатории. Художник Даниель Бюрен писал о появлении «постстудийной практики». Благодаря ноутбукам, как вы говорите, то же самое происходит с композиторами. Расскажите, как работаете вы сами, какую часть работы вы делаете в поездках, а какую – в студии?
ФБ: Лично я не то чтобы много путешествую. Бывает, мне посчастливится съездить на концерт моей музыки в другой город. Но написание музыки требует спокойной обстановки. Тебе нужны под рукой оборудование, книги, иллюстрации, катушки с наборами звуков. У меня процесс распределен на два компьютера: на одном я обрабатываю звук с аппаратуры в режиме реального времени, а на другом работаю с информацией на жестком диске, модулирую и храню данные. На этих компьютерах установлены все возможные программы обработки звука, которые мы исследовали в GRM. Инженеры с нашей помощью разработали для них интерфейсы, которые дают удивительные возможности. Конечно, на настройку уходит много времени, но звук с их помощью можно менять интереснейшим образом. Что характерно, эти интерфейсы крайне наглядны. Ты сразу видишь, как нарезать звуковую дорожку на мелкие кусочки, как управлять звуком, то есть от тебя не требуется… как бы это сказать… технических навыков. Настройки очень интуитивны, не нужно штудировать 70 страниц сопроводительной литературы, чтобы понять, какой именно параметр за что отвечает, – в отличие от IRCAM, где для работы постоянно требуется присутствие технического ассистента.
ХУО: Бесконечен ли ваш творческий процесс или в какой-то момент вы все-таки останавливаетесь? Я имею в виду, раз вы не записываете нотацию, то как вы решаете, в какой момент произведение закончено?
ФБ: По большому счет процесс написания музыки зависит от динамики работы. Идея электризует нас: обычно все начинается со звука, который мы затем преобразуем и обрабатываем вручную или даже при помощи компьютерной мыши: мышью мы вычищаем его, как щеткой для пыли. Так рождается музыка: это волнение, которое не дает тебе спать по ночам, которое тебе нужно выплеснуть наружу, воплотить в реальность, дать ему быть услышанным. Я бы хотел показать вам одну запись того времени, из 60-х. Она у меня есть на DVD.
[Слушают запись.]
Это композиция из концерта «Lignes et points» («Линии и точки»). В определенный момент музыки на фоне внезапно возникает изображение. Это работа Петра Камлера [польский режиссер-аниматор] – мы сотрудничали с ним в 1960-х.
ХУО: То есть оно появляется неожиданно?
ФБ: Да. В «Линиях и точках» изображение очень простое: точки с ореолом, словно мерцание в тумане. Нашей задачей было добавить дополнительное измерение в процесс слухового восприятия. Концерт длится час, и вдруг восемь минут из него ты видишь это изображение. Оно открывает в пространстве пятое измерение. Время и пространство оттеняются визуальным воздействием с непредсказуемой синхронизацией – иногда оно точно повторяет музыку, иногда почти не зависит от нее. То и дело возникает агогика, с замедлением или ускорением. Здесь она, например, создает отдельный окрашенный слой в произведении.
ХУО: Выглядит потрясающе. Этот концерт исполняли вживую?
ФБ: О да, но недолго. Мне редко выдавалась возможность давать много концертов. В общем, вот как это выглядело, изображение еще показывалось какое-то время… Это часть из произведения «L'Expérience acoustique» («Акустический опыт», 1969–1972) – хотя, как мы только что видели, он не только акустический. Здесь соотношение противоположно музыке в кинематографе. В кино музыка подчеркивает то, что мы видим, а тут наоборот – изображение подчеркивает то, что мы слышим. Петр Камлер – это польский художник и аниматор. Ему, должно быть, как и мне, 70 лет, но выглядит картинка так, словно ее сделали вчера. Сложно вообразить, что ее нарисовали в 1965 году при помощи мультипликационного станка, камеры и перфоленты. Кажется, что это компьютерная анимация.
ХУО: Да, изумительно. Расскажите, пожалуйста, об изобретении «Акусмониума» [оркестр динамиков, созданный Бейлем в 1974 году]. К нему часто обращаются современные молодые деятели. Как к вам пришла его идея?
ФБ: Изобретение «Акусмониума» связано с появлением акусматической музыки. Акусматика – это теория слухового восприятия, а «Акусмониум» – ее инструмент. В ранние годы электронной и конкретной музыки на непривычного слушателя легко было произвести впечатление. Зрители слушали музыку через два динамика, и, поскольку композиции обычно длились очень недолго и отличались от всего, что люди привыкли слышать, несколько лет этого хватало. А потом в один прекрасный день все изменилось: такие концерты всем надоели. В этот момент я и вышел на сцену, когда понял, что период первопроходцев закончился и нужно двигаться дальше, работать упорнее, развиваться и делать нечто новое. Я заметил, что на концерты электронной музыки ходят те же люди, что и на симфонические концерты в филармониях, а там музыку исполняет ряд инструментов: скрипки, кларнеты, духовые, перкуссия, контрабас… Мне просто пришло в голову поставить на сцену больше динамиков с разными диапазонами частот, как если бы то были разные инструменты, низкочастотные и высокочастотные. Замысел произвел эффект: композиторы начали по-иному осмыслять свою музыку и расширять ее за счет разных диапазонов частот, имея возможность расставить динамики на соответствующих позициях в звуковом пространстве.
ХУО: Это называется полифонией динамиков?
ФБ: Именно. Это оркестровая и пространственная структура конкретной музыки. В то время я написал показательное произведение, под названием «Grande Polyphonie» («Большая полифония», 1974), которым продемонстрировал, что колонки нужны не просто для грохота. Они создают линии звука, переплетенные между собой, словно морские волны, и публика благодаря им, может приобрести богатый слуховой опыт.
ХУО: То есть в полифонии нет иерархии.
ФБ: Вот несколько фотографий с постановки «Полифонии». Мы добавляли световые эффекты и органично вписывали их в звучание. Несколько раз мне посчастливилось сотрудничать с очень талантливыми художниками по свету – они использовали лазеры и дым, очень четко работая по сценарию, чтобы не нарушить общей картины. Когда погружаешься в зрелище, ты словно оказываешься в другом мире… и все это задолго до появления техно и прочего. Сейчас это распространенное явление, насколько я знаю. Вот первый «Акусмониум», который я разработал для «Espace Cardin»
в 1974 году. Моей задачей было совершенно изменить привычное представление о музыкальном концерте с использованием динамиков. Действие происходило в темноте, и лучи света падали на расставленные динамики – сферические, кубические, маленькие, большие и т. д. В обстановке, в четких линиях чувствовалось некоторое влияние Баухауса.
ХУО: Это еще напоминает триадические балеты Оскара Шлеммера.
ФБ: Да, конечно. Многие годы мы работали с этой системой, и у нас сложился сценический образ, на мой взгляд не менее яркий, чем у «Kraftwerk». Мы пользовались большим успехом. Если однажды мою музыку забудут, то об «Акусмониуме» еще будут вспоминать. После я еще давал концерты в разных местах, однажды – в восьмигранном зале, с лазерным шоу и маленькими сферическими динамиками, похожими на деревья.
ХУО: На ум приходит Дюшан с его «реди-мейдами» – ведь для выступлений вам требуется запас динамиков.
ФБ: Да, но нужен и запас идей, потому что нельзя расставлять динамики как бог на душу положит. Нужен принцип, руководство. Лично я анализирую помещения с точки зрения диагоналей и плоскостей – конечно, учитываю ближний и средний план, дальний, нижний и верхний – и продумываю оси проекций. Я теперь называю динамики не «динамиками», а «звуковыми проекторами». Для общей картины необходимы эти оси. Общую картину можно разбить на более мелкие и установить небольшие динамики ближе к зрителям, чтобы они слышали рядом высокочастотные звуки, слабые, но различимые, словно полупрозрачные. Вы бы слышали их, как сейчас слышите стук моих ногтей. А на заднем плане звук ревет, и приходится сооружать ширмы и противошумовые завесы. Так формируется контраст и пространственная ориентация музыки, на основе которых строится композиция.
ХУО: Какова ваша концепция полифонии в данном случае и в целом?
ФБ: В «Большой полифонии» на первую ее часть, «Aux Lignes Actives» («Об активных линиях»), меня вдохновил Пауль Клее. Меня очень заинтересовали его «Педагогические эскизы» [сборник заметок для его лекций в Баухаусе с 1921 по 1931 год], где он рассказывает, что линия может быть пассивной, если она служит разделителем двух поверхностей, или активной, если у нее есть направление и на ней делается акцент, чтобы глаз следовал за ней, будь она прямая или изогнутая. Взгляд на эту линию не статичен, он динамичен, потому что линия тянет его за собой. Глаз скользит, взгляд оживает и движется через пространство во времени, таким образом наделяя пространство характеристикой времени. Я счел эту мысль очень полезной для музыканта и применимой к музыке. Я был не первый. До меня Булез и Штокхаузен уже задумывались о том, как использовать в музыке идеи Клее о зрении. Композиторы инструментальной музыки работают только с бумагой, а потом, на сцене, им не дают развернуться музыканты, которые сидят на стульях и не могут качаться на трапециях или летать как птицы. Такую музыку ограничивает факт ее неизбежно статичного исполнения. В случае проецируемого звука, а именно организованной полифонии, линии звука могут быть подчеркнуты: они пересекают сцену по диагонали или исходят от задника или из-за спин зрителей. В твоей власти создать насыщенную, бурлящую акустическую реальность, проще говоря, динамическую. В этом идея полифонии – не просто в отклонении от линейной многоплановости, но в динамических пространственных плоскостях, в волнах звука, захлестывающих друг друга, как порывы ветра или морской прибой. Это не просто буря звуков, но раскрытое многогранное богатство природы и в первую очередь наших возможностей восприятия. Ведь мы – дети природы, ее продукты, и наше восприятие, способность нашего разума к восприятию приспосабливается к богатому разнообразию в природе. Когда мы создаем художественный объект, мы должны задействовать как можно больше способов человеческого восприятия. При возможности нужно использовать все; опыт, который дает человеку произведение искусства, должен быть сравним с опытом в условиях природы. Очень жаль, что искусство не так богато, как природа, очень жаль.
ХУО: Молодые деятели в наши дни проявляют огромный интерес к вашей расстановке динамиков. Ее бы назвали сейчас инсталляцией.
ФБ: Верно, она похожа на инсталляцию…
ХУО: Я беседовал с Ксенакисом о его «Политопах». Существует некая грань, после которой концерт становится инсталляцией. Можно его тогда назвать концертной инсталляцией или «инсталляционным» концертом?
ФБ: Да, получается союз двух явлений.
ХУО: Раз уж мы заговорили об этом, что вы думаете о звуковых выставках? Ксенакис выставлял свои «Политопы» в музеях и экспериментировал с архитектурой. Можно еще вспомнить Ле Корбюзье и его работу над павильоном «Филипс». Был ли у вас опыт таких выставок и как вы видите связь между музыкой и архитектурой?
ФБ: В этом я не заходил так далеко, как Ксенакис; это была его сфера, его ремесло, его творческий мир. Едва ли кто-то смог бы с ним тягаться. В этом плане он предугадал появление многих вещей. Что касается меня, я всегда завидовал художникам, завидовал успеху современных художников, каким они пользовались с 1910-х годов. Им удалось привить людям идею, что живопись и скульптура не обязаны служить отражением реальности, что они существуют в отдельном мире, которому художник дает право на жизнь самой своей способностью создавать эти миры. На мой взгляд, художники в XX веке ушли куда дальше музыкантов. Музыканты все еще очень боязливы, потому что язык музыки коренится в прошлом; на их плечах тяжелым грузом лежат Бах, Бетховен, даже Дебюсси и Стравинский. Очень сложно идти следом за столь монументальными фигурами. Едва мы пытаемся сделать что-то совершенно другое, нам кажется, что мы оставим пустую страницу и не создадим ничего выдающегося, ведь над нами вечно высятся девять симфоний Бетховена и гласят с укором: «Попробуйте, потягайтесь с нами, господа!» С появлением проецируемого звука, мощи звуковой проекции мы смогли возводить наши громадные звуковые храмы, которые приводили слушателя в такой же трепет, как симфонии Бетховена. Кроме того, технологии подарили нам мультипликацию. Но нам все еще предстоит изобрести некий пластический элемент. Мне повезло проводить выставки в очень современном здании, созданном по проекту одного студента Ле Корбюзье в Аррасе…
ХУО: [Андрэ] Вогенски?
ФБ: Да, он построил центр Норуат в Аррасе.
ХУО: Да, знаю – я брал у него интервью.
ФБ: О, вы его знаете? Восхитительно. Я был знаком с владельцем этого здания, и он часто приглашал меня – сейчас он уже умер, и дело продолжает его сын. Я несколько десятилетий был их музыкальным консультантом и устраивал выставки композиторов. В их галерее собирали произведения живописи и объекты, которые вдохновляли композиторов, фрагменты партитур, черновики, иногда элементы произведений, с одной стороны сами по себе не имеющие ценности, но в то же время очень символичные: звукопроизводящие тела и звуковые объекты[57], такого рода вещи. Потом в одном помещении я оборудовал небольшой «Акусмониум», ну и, конечно, по расписанию проходили концерты.
ХУО: Похоже на Часовню Ротко.
ФБ: Именно, часовня звука, по которой днем можно бродить и рассматривать экспонаты. Несколько лет все шло прекрасно, я организовал шесть или семь выставок, одну совместно с Пьером Анри: о себе, о GRM в целом, об Иво Малече, о Бернаре Пармеджани, о Жаке Лежене[58]. Это были выставки-презентации, посвященные работам одного человека. Больше я нигде не смог бы сделать подобного, потому что в любом другом месте нужна известность, деньги и никуда не деться от вмешательства владельцев галерей. Везде возникают трудности социального характера, не хватает рычагов влияния. Вы не хуже моего знаете, что организация выставок находится в руках людей, которые ведут дела очень жестко. С концертами то же самое: это отдельный мир со своей системой управления. Но в Аррасе было совсем не так, и я счастлив, что мне выдалась возможность там работать.
ХУО: Получается, там вы одновременно были и творцом, и куратором?
ФБ: Да, я был куратором: развешивал экспонаты, проводил церемонии открытия… весь ритуал был соблюден. Люди приходили, осматривали экспозицию – каждый раз в одном и том же помещении я устраивал ее по-разному. Интересно преображение пространства, которое ты хорошо знаешь и видишь не в первый раз; все так же, только его населяют разные объекты: разной длины, разной величины, разной значимости, в разном количестве, разной степени необычности… Мы старались подходить к устройству выставки как можно более творчески, каждый раз изобретая что-то новое. Я занимался этим несколько лет, и это было славное время. Я бы с радостью снова поработал так, но в Париже ситуация совсем иная – галереи конкурируют между собой, да и… с пространством стало сложно.
ХУО: Леонс Петито, владелец галереи в Аррасе, был в своем роде меценатом.
ФБ: Да, поэтому мы пользовались большой свободой.
ХУО: Разработку конвертов для пластинок на вашем звукозаписывающем лейбле тоже можно назвать кураторством, не так ли?
ФБ: Безусловно. Периодически мы устраивали фестивали для производителей пластинок. Лично я провел два: однажды я предложил другой фирме-изготовителю CD-дисков электроакустической музыки выставить образцы своих записей и продемонстрировать публике, что мы – не единственные в своей сфере, что помимо нас есть целый мир и огромный рой производителей занимается пластинками, изготавливает конверты и прочее и подходит к делу очень творчески. Ведь этот мир замкнут сам в себе! Есть замечательный лейбл «Metamkine» Жерома Нотингера. Это параллельный рынок, параллельный мир за рамками коммерческого круговорота. Люди производят записи в условиях очень ограниченного бюджета и делают это с богатой фантазией. Через интернет и флаеры они распространяют информацию о записях, которые они иногда выпускают в единичных экземплярах и изготавливают кустарным способом… Удивительно.
ХУО: Мы подошли к понятию «протоорганизации». Этот термин впервые стали употреблять в урбанизме. Я сейчас вспоминаю Йону Фридмана[59], с которым я работал, и Седрика Прайса[60]. Фридман пришел к урбанизму от науки и очень заинтересовался феноменом самоорганизации. Он заключается в том, что градостроитель, осознавая свою власть, разработает план, излагает его и запускает процесс самоорганизации. Мне любопытна эта идея в применении к музыке. Каким образом композитор может работать в режиме самоорганизации, а не по заранее прописанному «генеральному плану»?
ФБ: Самоорганизация – это очень важно, это даже единственный возможный способ существования в наше время, когда международные корпорации и капиталистическая система массового производства ставят рамки нашей жизни и всему миру. Эта система насаждает в умы молодого поколения установку, что им нельзя прожить без пары «найков», которые стоят в десять раз больше, чем у них есть. В результате они воруют, идут на риск и совершают ужасные поступки, только чтобы заполучить кепку или майку с логотипом. Но этой массовой культуре противостоит армия сопротивления свободных художников, которые создают вокруг себя маленькие мирки с системой самостоятельного производства. Они борются с вторжением. Конечно, это смешно, и каждый такой мирок обречен на погибель. Системы самостоятельного производства не уходят далеко, массовая система душит их; все заканчивается смертями на шоссе или от наркотиков – массовые казни под стать массовой цивилизации. В то же время самообеспечение позволяет тебе держать голову высоко и жить, несмотря ни на что. Оно дает убежище для выживания в условиях враждебной среды, небольшие островки сопротивления. Сильнейшие творцы могут шагнуть дальше, проникнуть во власть имущие организации – мы доказали, что это возможно, – проложить путь в редакции, в концертный бизнес, в радиовещание и изменить порядок вещей, а потом уйти, но извлечь из этого выгоду. К примеру, будучи в «Филипс», мы сделали прорыв и создали свой дочерний лейбл, а потом отсоединились. «Филипс» – по-прежнему «Филипс», большая компания, но в их широкий поток производства тогда затесалась маленькая странная вещь – лейбл «Prospective».
ХУО: При этом вы создавали собственные организации. С одной стороны, вы проникали в институты, с другой – занимались самостоятельным производством.
ФБ: Поэтому я считаю, что нужно оставаться оптимистом, даже когда кажется, что трудности непреодолимы. Даже когда тебе говорят: «Сейчас уже все бесполезно», всегда возможно добиться успеха на собственных условиях.
ХУО: Давайте поговорим об оптимизме, раз уж интервью началось с несколько пессимистичной ноты. Вы знаете современных молодых композиторов, подающих надежды? Что вы прочите новому поколению?
ФБ: Конечно, знаю многих. Мои интересы простираются от Вареза, Ксенакиса, Штокхаузена и композиторов моего поколения, таких как Люк Феррари, Иво Малеч, Бернар Пармеджани, Пьер Анри, Анри Дютийе, до молодых музыкантов. Самые любопытные имена, на мой взгляд, это Кристиан Занеси, Франсуа Донато, Мишель Редольфи, Аннет Ванде Горн в Брюсселе, Робер Норманду в Монреале, Джонти Харрисон в Бирмингеме… в общем, целый «интернационал» молодых композиторов. Я проводил концерты под названием «L'Internationale Acousmatique» [1996], посвященные движению, которое тогда возникло и развилось, а теперь охватило многие страны, где не забылись уроки конкретной музыки. Одновременно получили развитие несколько аспектов: техника прослушивания, инструментальные навыки при использовании звукового оборудования, концепция формирования времени и пространства через звуковые проекции, организация концертов, балансирующих между магическим ритуалом и чувственным опытом. Магическим в нерелигиозном смысле, потому что ни в коем случае нельзя поддаваться опасному желанию устроить секту, поддаваться духовному идиотизму и начать диктовать мораль. В этом плане нужно сохранять максимально ясную голову и светский подход. На мой взгляд, духовность необходима, но в нерелигиозном плане, то есть очень личная духовность, без попыток манипулировать сознанием других людей. Нам просто нужно найти в себе место для свободы и для контакта с силами, превосходящими нас, с силами космоса. Мы должны быть к ним очень восприимчивы. Эта революция возникла в начале XX века и продолжается до сих пор – ее нельзя остановить, потому что она – то самое движение, которое порождает жизнь и преодолевает все преграды. К сожалению, не только творческая деятельность движется вперед. Система массового производства широкими шагами шагает бок о бок с ней, как и социальное неравенство, катастрофические проблемы экологии… и многое другое.
ХУО: Это идея «эпохи модерна». Как сказал Филипп Паррено: «Говоря об обществе, modernity можно определить как время политики отстранения, другими словами, период, когда последствия поступков имеют лишь малое значение», и это напоминает мне, например, о теориях Ульриха Бека. Сейчас, наоборот, время политики вовлечения, управления аффектами. Прошла ли музыка через эти перемены? Конечно, тут нельзя не затронуть тему модернизма и постмодернизма. Что вы об этом думаете?
ФБ: Мое отношение к постмодернизму весьма негативное. Я склонен спокойно относиться к приступам ностальгии по комфорту – комфорту прослушивания, комфорту зрительного восприятия, ностальгии по тому, что избавляло от лишней тревоги. Я могу понять, что в какой-то момент тревога достигает предела, и тогда мы стремимся вернуться к прошлому, чтобы избавиться от нее, чтобы искусство давало силы, а не копало вглубь. Я готов принимать все это до тех пор, пока сохраняется дух открытий. До тех пор, пока можно увидеть и услышать что-то новое, что-то, чего мы не слышали прежде. Поэтому я против возвращения к «ретро», если только не в контексте сарказма или полемики: в качестве коллажа, например, тогда это другое. Оттенок насмешки никогда не бывает лишним – если только одной ей дело не ограничивается, иначе это очень поверхностное занятие. Но мы живем во время, когда проблема постмодернизма, возвращение к ценностям, отвергнутым модернизмом, представляет собой нравственную проблему. Я верю, что возвращение к прошлым ценностям оправдано только в том случае, если при этом не останавливается процесс подлинных открытий, а точнее, они представляют собой первостепенную задачу, и только тогда.
ХУО: Получается, вы ставите модернизм выше постмодернизма?
ФБ: Определенно. Но, может, как раз модернизм однажды и воскресил отвергнутые им ценности. Ведь сначала модернизму, чтобы укрепиться, потребовалось отказаться от многого, а именно от ценностей комфорта: он установил режим дискомфорта и тревоги. Он открыл чистейшую страницу! Подумать только о Беккете, Кандинском… Поскольку тогда такого никто еще не видел, появилось огромное поле для открытий. Что можно еще сделать после этого? Конечно, мы видим, что возвращаются вещи, которые тогда предали забвению. Я не против возобновления, лишь бы не прекращали изобретать! Возобновление без открытий, простое возвращение к прошлому я не готов принять…
ХУО: Очень интересное мнение, и в этом основная цель моих интервью – не воскрешать, а пересматривать, освежать в памяти определенные моменты, чтобы к ним могли обратиться нынешнее и грядущие поколения.
У меня есть еще один вопрос, который я задаю в каждом интервью. Он касается нереализованных проектов. Не могли бы вы рассказать о том, что вы не воплотили в жизнь? Утопические проекты, слишком масштабные, возможные в будущем или невозможные вовсе…
ФБ: Что ж, проект, который я готовил всю жизнь, я называю «Акусматик» («Acousmathèque»). Это некий дом звука, наподобие «Акусмониума», своеобразный музей, очень многофункциональное место, не слишком большое – чтобы в смысле организации оно не превратилось в неуправляемое орудие власти, – но и не слишком маленькое, чтобы не смахивало на самодеятельность. Иными словами, функционирование такого места не мог бы обеспечить только один человек – это открытое пространство, вмещающее две-три сотни зрителей и столько динамиков на стенах, сколько в зале кресел, для максимальной гибкости звуковой проекции, – сейчас, конечно, при помощи компьютерных технологий такой системой очень просто управлять, и это не стоит больших денег. Главная идея в том, чтобы это заведение работало 24 часа в сутки, без перерывов, и все это время его посещали разные люди. В своем роде светская церковь, куда можно зайти, отдохнуть, послушать музыку и попытаться осознать нечто, что возвышается над житейскими проблемами. Толчком для идеи этого проекта послужило место, где мне однажды довелось оказался. В 1966 году я был в Праге, еще до известных событий, и посетил звукозаписывающую компанию под названием «Supraphon». Они оборудовали в студии отдельную комнату для прослушивания, в которой установили 20 или 30 кресел и две звуковые колонны, очень высокого качества по тем временам. У той компании была огромная музыкальная библиотека – они делали записи для всех радиостанций Восточной Европы, и им не нужно было приобретать на них права. Программу составлял толковый музыковед, и там всегда играла стоящая музыка – открой дверь, заходи, садись и слушай. Я заглядывал туда в разное время и встречал женщин, которые только шли с рынка с сумками овощей… По пути домой они заходили туда, садились и что-нибудь слушали. Иногда симфонию Брамса, иногда концерты для фортепиано Шопена или произведения Яначека. В то время не было такого количества станций, как сейчас, только государственное радио…
ХУО: То есть это была не выставка, а событие, застывшее во времени…
ФБ: Именно так, открытый мир звуков и огромное пространство для воображения, которое возводят в нем композиторы…
ХУО: Это и есть модель вашего проекта, его прототип?
ФБ: Да. На мой взгляд, это было потрясающее место. Заходишь внутрь, ничего за это не платишь и оказываешься в утопии звуковой цивилизации… Ты заполняешь ее всеми ее благами, всеми ее ресурсами, заполняешь до отказа и получаешь огромные просторы для наслаждения. Однажды такой проект нужно воплотить в жизнь, только использовать более широкий набор средств и пространственное движение звука и проигрывать работы, специально написанные для этой цели, а не просто все подряд… Но, в конце концов, почему бы не послушать великие голоса, голоса давно умерших людей, которые произносили прекрасные вещи, поэтов, документальные материалы… Для меня это грандиозный проект, это социальная идея, музыкальная идея, визуальная идея, кинематографическая идея, идея путешествия… и духовная тоже, это словно церковь, куда я прихожу и приближаюсь ко всем тем людям, благодаря которым воображение через слух взмывает на величайшие высоты… Я верю в слуховую мысль, слуховая мысль для меня реальна, потому что я познал ее, как некоторые говорят, что верят в Бога, потому что встречали его… Я верю в слуховую мысль, потому что так устроен… Я мыслю через слух – про художников можно сказать так же, что они мыслят через зрение, – потому что так моя мысль обретает форму, и в этом заключается мое особое восприятие мира. Конечно, первыми со мной согласятся слепые – они очень богаты духовно и восприимчивы на слух к широкому спектру ощущений и богатству мыслей, фантазии. Но, говоря о музыке, о речи, о звуковой поэзии, о человеческих качествах звучания голоса, человечность заключается именно в голосе… Это магические моменты… Такая моя утопия.
Родилась в 1932 году в Хьюстоне, штат Техас. Живет и работает в Кингстоне, штат Нью-Йорк.
Аккордеонист, композитор и исполнитель Полина Оливерос – одна из самых значимых женских фигур в американском авангарде. Она среди первых начала использовать эффект задержки звука в магнитофонной записи и изобрела EIS [Expanded Instrument System/Расширенная инструментальная система] – систему, которая во время живого исполнения дает доступ к студийной обработке звука, т. е. к изменению высот, эффектов окружения и тембра, что позволило музыкантам подстраивать звук инструментов к виртуальному акустическому пространству. В 1960-х годах она стала членом, а затем директором Центра магнитофонной музыки Сан-Франциско (San Francisco Tape Music Center), известной студии, в которой также работали такие знаковые композиторы, как Терри Райли и Стив Райх. Оливерос разработала концепцию «глубокого слушания» – философию и практику, совмещавшую в себе принципы импровизации, электронную музыку, ритуальные элементы, преподавание и медитацию, целью которой было привить подготовленным и неподготовленным музыкантам интерес к искусству прослушивания и научить их чувствовать окружающую обстановку при сольном и коллективном исполнении. Группа «The Deep Listening» («Глубокое слушание»), в которую входят Стюарт Демпстер, Дэвид Гемпер и Оливерос, с 1988 года практикует выступления и запись в помещениях с высокими резонансными и ревербационными свойствами, например храмах и огромных подземных резервуарах. Оливерос получила ученые степени Школы музыки Мурс (Moores School of Music), Университета Хьюстона и Государственного университета Сан-Франциско, где она училась у композитора Роберта Эриксона. В 2012 году ей была присуждена премия Джона Кейджа, а также она носит звание заслуженного профессора-исследователя музыки Политехнического института Ренсселера в городе Трой, штат Нью-Йорк, и преподает на Курсах художников-резидентов им. Дариюса Мийо колледжа Миллс в г. Окленд, штат Калифорния.
Данное интервью, ранее не опубликованное, было взято в 2007 году в галерее «Серпентайн», Лондон.
ХУО: В мире искусства с 1960-х годов часто обсуждают постстудийную практику. Тем не менее многие молодые деятели по-прежнему занимаются устройством студий. Конечно, сейчас технологии заметно развились и студия может существовать не только как физическое место, но и как сетевое пространство, объединяющее разные точки. Я хотел бы узнать, какое место студия занимает в вашем творческом процессе.
ПО: В 1960-х студия играла для меня большую роль, потому что первым делом я училась именно работать в студии. Моя практика всегда основывалась, прежде всего, на живом исполнении, поэтому я хотела уметь обращаться со студийным оборудованием и изобрела свой подход к работе в классической студии электронной музыки. С тех пор я всегда придерживалась его и для этих целей разработала Расширенную инструментальную систему [EIS][61]. С ее помощью можно обрабатывать звук любого инструмента, электронного или акустического. В 1960-х и 1970-х мне приходилось носить с собой магнитофоны, чтобы применять эффекты задержки, но потом эти эффекты стали цифровыми[62]. Сначала магнитофоны заменил процессор «Lexicon PCM 42», а сейчас все, конечно, есть на компьютере. Впрочем, не совсем все, что-то еще делается на аналоговых устройствах.
ХУО: Расширенная инструментальная система – это система электронной обработки сигналов, которую вы самостоятельно разработали, и одно из достижений, принесших вам широкую известность. Расскажите, как вы изобрели ее? Откуда возникла такая идея?
ПО: Мне пришла в голову эта идея к 1960 году, после того как мой друг Рамон Сендер[63] для одного нашего концерта сделал закольцованный эффект задержки звука при помощи пленки, которая перематывалась с одного магнитофона на другой. Интервал повтора эха получался очень большим, то есть мы импровизировали на акустических инструментах, и через какое-то время начинала воспроизводиться запись нашей игры. Так появилась изначальная идея. При другом расположении записывающей и воспроизводящей головок магнитофона можно было добиться и короткого интервала повтора эха. Меня очень заинтересовал этот эффект, и я использовала его самыми разными способами. Я написала статью «Техника эффекта задержки для композиторов электронной музыки» (1969). Эта изначальная идея и лежит в основе моей системы.
ХУО: В то время вы были в Сан-Франциско и сотрудничали с известным институтом – Центром магнитофонной музыки Сан-Франциско[64]. Изобретение всегда происходит в некоей среде; каждому великому ученому нужна лаборатория, где он будет совершать открытия, и для вас средой стал еще и Сан-Франциско. Я брал интервью у Терри Райли[65], а также у таких новаторов своего времени, как Брюс Коннер, Лоуренс Халприн, Анна Халприн и Симона Форте, которые тоже были там. Они все рассказывали, что те годы в Сан-Франциско были необыкновенными.
ПО: Прекрасное время. В первую очередь потому, что у нас было свое сообщество – сообщество творческих людей, тех, кого вы перечислили, и многих других, и мы все работали вместе. Мы поддерживали друг друга, и из нашего общения рождались стержневые идеи и методики, которые мы затем развивали. Не было похожих фигур, все были разные, но при этом все друг друга уважали и помогали друг другу. Я счастлива, что мне довелось познакомиться с ними, и храню о том времени самые теплые воспоминания. [Смеется.] Мы постоянно общались. Мы с Терри вместе занимались в музыкальной школе при Государственном колледже Сан-Франциско[66], так что в то время мы были коллегами, ровней. Там же появлялся Ла Монте Янг; Стив Райх[67] получал степень магистра искусств в колледже Миллс – в общем, время было удивительное. Сейчас готовится к печати замечательное издание – каталог Центра магнитофонной музыки Сан-Франциско[68]по инициативе Йоханнеса Гебеля, директора Центра экспериментального мультимедийного и сценического искусства в RPI [Политехнический институт Ренсселера в г. Трой, штат Нью-Йорк].
ХУО: Историю наконец запишут.
ПО: Да, история уже записана, и в каталог войдет документация к нашей недавней ретроспективной записи – мы собрались вместе и сыграли несколько старых композиций для выпуска на DVD. Ведь в те дни не было возможности задокументировать все, как сейчас.
ХУО: Я беседовал в Европе с Пьером Булезом, [Карлхайнцем] Штокхаузеном и [Янисом] Ксенакисом[69], и интересно отметить тот факт, что в то время пленка была передовым явлением – как сейчас интернет. Вы знали об экспериментах с пленкой в Европе и, в частности, с техникой эха или ваша идея развилась исключительно в контексте Сан-Франциско?
ПО: О том, что происходит в Кельне, мы слышали по радио. Мы слушали передачи и записи, поэтому можно сказать, да, мы знали. Но все же это и наш локальный феномен, ведь у нас имелась необходимая техника. Когда у тебя есть на чем работать, ты просто берешь и работаешь. Так мы и делали!
ХУО: Вчера мы разговаривали о вашем сотрудничестве с Джоном Балдессари. А как вы взаимодействовали с художниками в то время?
ПО: С нами постоянно работал Тони Мартин[70]. Он сотрудничал с Мортоном Суботником[71], Рамоном Сендером и со мной в Центре магнитофонной музыки Сан-Франциско, так что он был, можно сказать, штатным художником. Во время всех наших концертов он создавал визуальный ряд при помощи графопроектора и рисунков чернилами или маслом, слайдов или пленки, делал коллажи из разных проецируемых элементов и синхронизировал их с музыкой или происходящим театральным действием.
ХУО: А еще с кем-то вы сотрудничали?
ПО: Я работала с Элизабет Харрис, хореографом и художником. Она, к примеру, сделала качели, которые мы с Дэвидом Тюдором использовали в моем произведении «Дуэт для аккордеона и бандеона с возможным облигато птицы майна» («Duo for Accordion and Bandoneon with Possible Mynah Bird Obligato», 1964)[72]. Качели и сами сиденья вращались, опускаясь и поднимаясь, а в центре стояла конструкция с клеткой птицы майна[73], и она тоже вращалась. У нас вышла интересная ориентация звука: на одном конце качелей я играла на аккордеоне, на другом – Дэвид на бандеоне, и когда мы вращались, звук разлетался в пространстве.
ХУО: Похоже на Gesamtkunstwerk – «совокупное произведение искусства».
ПО: Да, точно.
ХУО: Были ли вы как-то связаны с движением Флуксус, Джорджем Брехтом[74] или другими фигурами?
ПО: Только позже. Уже после 1960-х, по-моему, в 1970-х, когда мы стали теснее взаимодействовать друг с другом. Я познакомилась с Элисон Ноулз и Диком Хиггинсом[75] в 1970-х.
ХУО: Вы работали с ними?
ПО: Да, можно так сказать. Мы часто навещали друг друга.
ХУО: Вне сомнений, они принадлежали к одному движению – неоавангарда, который, однако, по-прежнему использовал язык авангарда. Причисляете ли вы себя к этому движению?
ПО: Нет, я не принимала участия во Флуксусе, хотя движение было мне интересно. В 1970-х я провела фестиваль Флуксуса в Университете Калифорнии в Сан-Диего, чем Дик Хиггинс остался недоволен, поскольку я сама не имела отношения к традиции.
ХУО: Чем же он был недоволен?
ПО: Видимо, я провела выступления не так, как это обычно делал Флуксус, и устроила их по-своему: они все проходили одновременно, как коллаж [«Deep Listening Pieces» / «Произведения глубокого слушания», 1971–1990]. По традиции Флуксуса их эксцентричные выступления должны были проходить в рамках одного концерта.
ХУО: Мы по-прежнему зациклены на всевозможных «измах» и ярлыках. Часто артистам это не по душе. Если бы вас попросили охарактеризовать себя с точки зрения принадлежности к какой-либо группе, вы смогли бы это сделать?
ПО: Нет. Я за свободу! [Смеется.] Мне нравится выходить за рамки, стирать границы и расширять замкнутые пространства.
ХУО: На днях мы говорили с Брайаном Ино[76] о том, что минимализм тоже в какой-то степени стал оковами. Мне любопытна ваша точка зрения на минимализм.
ПО: Меня раздражает этот термин, потому что это ярлык, который лепят с размаху. Меня называют минималистом, но я не имею к минимализму никакого отношения. Минималисты – это Терри Райли, Стив Райх и Джон Адамс. Хотя даже на Терри этот ярлык вешать глупо, по-моему.
ХУО: Значит, минимализм вычеркиваем. Что насчет электронной музыки?
ПО: Что ж, это…
ХУО: Слишком широкий термин?
ПО: Очень широкий, в наше время он охватывает целый мир. В 1960-х у него было более узкое значение. Он относился к музыке, целиком основанной на электронном звучании. Конкретная музыка – это уже не то, и акустическая, разумеется, совершенно другое. В наше время термин «электроакустическая музыка» довольно конкретен, однако и он соотносит музыку в первую очередь со структурными единицами – ансамблями то есть, оркестрами или камерными группами и т. д. Но зачем? Это все – музыка. Давайте использовать самую широкую терминологию.
ХУО: Что касается электронной музыки, меня все еще крайне занимает техническая сторона вопроса. Я читал вашу статью «Квантовая импровизация» [1991], в которой вы в основном писали о кибернетике. Кибернетика во многом повлияла на архитектуру – если вспомнить, например, Седрика Прайса[77] – и повлияла на художников. Я хотел бы спросить, как соотносится с кибернетикой ваша музыка и служила ли она вам вдохновением?
ПО: Я постоянно обращаюсь к технологиям. Как человек, который сам исполняет музыку и управляет звуком, я применяю доступные технологии доступными мне способами и адаптирую их для своих целей или для получения нужного мне звука. Поэтому мне интересно все новое, все инновационное, интересно, в каком направлении идет развитие. Так что в этом смысле наука служит мне вдохновением, и поскольку я сама принадлежу к культуре, для которой технологии в принципе стали источником инноваций, я считаю себя новатором в методах работы с этими технологиями.
ХУО: Философ Вилем Флюссер говорил мне, что для него самая интересная задача – найти новое назначение для техники; использовать камеру так, как не приходило в голову ее изобретателю. Вы согласны с ним?
ПО: Совершенно согласна. Нужно найти в предмете его неотъемлемые свойства и работать с ними.
ХУО: Когда, например, вы использовали технологии необычным способом?
ПО: Скажем, тот же эффект задержки звука. Магнитофон нам дал только исходную идею, но ведь его создатель явно задумывал его не для таких целей. Сейчас у меня для работы на компьютере есть 40 разных эффектов эха. С пленкой такого разнообразия нельзя было добиться без 20 или 30 магнитофонов.
ХУО: Сорок разных эффектов! Как вы их применяете?
ПО: Я делаю запись, затем выбираю, сколько и каких эффектов хочу наложить, после чего настраиваю их. Иными словами, я пробую накладывать на записанный колебательный сигнал другие так, что у меня в итоге из одного звука получается до сорока разных вариаций.
ХУО: Мы сейчас снимаем интервью на камеру, а вы часто говорили о человеческом стремлении все записывать, воссоздавать и сохранять. Не могли бы вы подробнее изложить свою мысль об архивации и памяти?
ПО: Так человек борется с непостоянством… Ничто на самом деле нельзя сохранить навсегда. Архивы либо недолговечны, либо существуют только в настоящий момент.
ХУО: Как вы пользуетесь архивами?
ПО: У меня есть отсортированные архивы, и они хранятся в разных организациях, например в Нью-Йоркской Публичной библиотеке и в Университете Калифорнии, в колледже Миллс и Публичной библиотеке Хьюстона. Кое-что хранится в беспорядке у меня дома, но все это давно пора вывозить, потому что накопилось очень много. У меня есть живые напоминания о моем прошлом, и я должна им помогать – если хочу им долгой жизни.
ХУО: Что вы думаете о современных цифровых архивах? Нужна ли вам долговечность или вы считаете, что мимолетность ценнее?
ПО: У меня есть, например, архивы электронных писем, я храню звуковые файлы и т. д., так что да, такие архивы у меня имеются. Но мне нужен архивариус, потому что сама я не могу уследить за порядком.
ХУО: Изменила ли интернет-революция ваш порядок работы? Два дня назад я брал интервью у молодой группы «Battles», и они рассказывали о том, как интернет повлиял на них: теперь они выкладывают видео на Myspace, а вы проводите концерты в «Second Life» [виртуальный онлайн-мир]. Что изменилось с появлением интернета?
ПО: Перемены приходили постепенно. Сначала, конечно, появилась электронная почта. Я завела свой первый ящик в 1986 году.
ХУО: Как давно!
ПО: Да. Разумеется, я и тогда стремилась быть в авангарде! Я увидела в электронной почте потенциал, а мне всегда интересны новые возможности общения, чтобы поддерживать связь с друзьями. Могу сказать, пока Стюарт Демпстер[78] был в Сиэттле, а я и Дэвид Гемпер[79] в Нью-Йорке, группа «Deep Listening» продолжала свою деятельность только благодаря электронной почте. Это во-первых. Со временем я стала понимать, что таким образом могу поддерживать контакты со все большим числом людей, обмениваться идеями, организовывать время, координировать мероприятия и так далее. Сейчас я провожу аудиотрансляции через передовой сервис сети «Интернет2»[80] – через него ансамбль в одном месте может сотрудничать с коллегами из другого ансамбля где-то еще. Для нас открылась новая площадка, новое пространство, новые пути для совместной работы.
ХУО: Раньше вы проводили концерты в самых неожиданных местах.
ПО: Да, а сейчас мы перемещаемся в виртуальное пространство.
ХУО: Однажды вы сказали, что пространство «недооценивают». Вы все еще так думаете?
ПО: Да, я так думаю.
ХУО: Расскажите, зачем вы стремились исследовать пространство с точки зрения музыки? Сегодня вечером у вас концерт в павильоне «Серпентайн»[81], который построили в этом году по проекту Олафура Элиассона и Кьетила Торсена, а это крайне нестандартное для исполнения пространство. Какие площадки, где вам доводилось играть, вам запомнились больше всего?
ПО: В концертных залах появляется эхо, и в разных залах время задержки, или реверберации, звука всегда разное. В зале Шаффи это 1,5 секунды – идеальное время задержки для произведений Моцарта. Большие соборы специально строили, чтобы звук в них приобретал неземную реверберацию. Моцарта в Нотр-Даме лучше не играть – там слишком большое время задержки. Эта разница во времени реверберации очень интересна с точки зрения окраски звука, его качеств. В разных пространствах ты звучишь по-разному. В этом для меня заключается основной интерес при перемещении между пространствами и поисках новых. К тому же очень важно, как ты организуешь звук во время концерта. Например, в павильоне «Серпентайн» публика сидит по кругу, и звук окружает ее со всех сторон, а исполнитель находится в центре, в отличие от залов, где звук исходит в одном направлении со сцены. Здесь другая проекция звука.
ХУО: Каждый раз, когда вы исполняете что-то вживую, вы играете разные произведения. Расскажите, почему так?
ПО: Звук существует в своей связи со временем и пространством. В каждом помещении музыка звучит по-разному.
ХУО: Вы основали группу «Deep Listening» – «Глубокое слушание», программу «глубокого слушания», институт Глубокого слушания[82]. Это словно связующий аккорд вашего творчества. Как вы изобрели «глубокое слушание»? Вы помните тот день?
ПО: Я связываю это событие с покупкой моего первого магнитофона в 1953 году, когда они только появились в продаже. Я первым делом поставила микрофон на окно и стала записывать все подряд. Потом, когда я слушала результат, я понимала, что некоторые звуки я не замечала, пока записывала. С той минуты я решила стараться услышать все и постоянно расширять свое внимание к звукам, везде и всегда. Это стало моей медитацией, и так родилась моя практика. В 1988 году мы делали запись в подземном резервуаре и назвали тот альбом «Глубокое слушание». Так мы потом назвали и группу. Я написала небольшой текст для брошюры CD-диска, в котором охарактеризовала наш стиль как «глубокое слушание». Так появился этот термин.
ХУО: Что ж, это не «изм», однако все равно это характеристика вашей музыки.
ПО: Да. Этот термин означает практику слуха и слухового восприятия. Я задумалась об этом и в 1991 году начала проводить семинары глубокого слушания. Сейчас это общеупотребимое словосочетание, в день я получаю пять или шесть запросов через Google, из различных источников – религиозных, духовных, деловых, политических – даже политики используют его, что не может меня не воодушевлять. Я, правда, очень рада, потому как всегда чувствовала, что слуховым восприятием пренебрегают и что люди, которые не слушают, не способны к дискуссии. Раз уж политические лидеры заинтересовались глубоким слушанием, значит, они на верном пути. ‹…›
ХУО: Вы считаете, слух – это главное. ПО: Самое главное. Если ты не слушаешь, ты не осознаешь.
ХУО: Получается, важен еще твой отклик на то, что ты слышишь. ПО: Верно. Эхо в музыке – это тоже отклик.
ХУО: Петля обратной связи.
ПО: [Кивает.]
ХУО: Марсель Дюшан сказал, что зритель делает 50 процентов работы[83]. Если заменить зрителя на слушателя, сколько, на ваш взгляд, работы делает слушатель?
ПО: Может, даже больше. Ведь когда играешь концерт перед аудиторией, возникает резонанс между мозговыми волнами исполнителей и публики. Когда это происходит, ты чувствуешь, как слух слушателей сливается в одно поле. Спутать это чувство ни с чем невозможно.
ХУО: В 1989 году Джон Кейдж сказал: «Благодаря Полине Оливерос и “Глубокому слушанию” я наконец понял, в чем заключается гармония: в удовольствии от создания музыки». Что такое гармония для вас?
ПО: Было приятно слышать это от Джона Кейджа. Он сказал так, после того как послушал записи «Глубокого слушания». Это было на ранчо «Скайуокер» [Джорджа] Лукаса, где проходила конференция по саунд-дизайну[84]. Мы оба были там, и я выступила с небольшим докладом, от которого он пришел в восторг и тоже прочитал речь. По его словам, он впервые выступал без подготовки! [Смеется.] Гармония, опять-таки, исходит из слухового восприятия и познавательного взаимодействия с миром. Познавательное взаимодействие через слух – вот что такое для меня гармония.
ХУО: Прекрасное определение. ‹…› В интервью для радиопередачи «American Mavericks»[85] («Американские бунтари») вы сказали: «Меня интересует физическая сторона написания музыки». Тут нельзя не вспомнить ваш сегодняшний концерт и в целом значительную физическую составляющую живых выступлений.
ПО: Меня интересует базовая природа звука и его способность трансформироваться и меняться. Для его восприятия мне нужно направить внимание на саму себя, ведь мое ощущение звука – это мой личный физический опыт. Это то, что я чувствую, когда исполняю музыку. Звук циркулирует и рождает в моем теле потоки энергии, которые затем перетекают от меня к слушателям. Передав этот чувственный опыт зрителям, потоки возвращаются обратно. Физическая составляющая рождает между нами связь и то эмоциональное состояние, о котором я говорила раньше. Оно сложнее, чем может показаться; такая связь существует только благодаря двустороннему обмену. ‹…›
ХУО: В вашем интервью для «American Mavericks» есть очень интересный абзац про произведение «4′33”» Джона Кейджа. Я хотел бы спросить о роли тишины в вашем творчестве.
ПО: Ее нет как таковой. Тишина наступит, только когда всему настанет конец! В моей работе не бывает тишины. Это очень относительное явление.
ХУО: Тишина относительна?
ПО: Да. Абсолютной тишины не существует.
ХУО: То есть для вас она – как ненаписанное произведение.
ПО: Верно.
ХУО: А есть ли у вас еще нереализованные проекты? Слишком большие, слишком маленькие, забытые, не прошедшие цензуру, слишком дорогие, отметенные вами самой?
ПО: Одну задумку стоило бы воплотить. Сколько на планете людей, семь миллиардов?
ХУО: Около того. Наверное, больше.
ПО: Что ж, тогда я хотела бы, чтобы семь миллиардов человек освоили глубокое слушание. Тогда мир бы изменился.
ХУО: Вот уж правда масштабный проект. А еще?
ПО: Больше ничего. По-моему, одного его было бы достаточно, разве нет?
Родился в 1933 году в Лондоне. Живет в Кембридже.
Петр Зиновьев – британский изобретатель русского происхождения, первопроходец в области электронной музыки. Он первым в мире оборудовал собственную компьютерную студию звукозаписи. В 1969 году он основал компанию «EMS» («Electronic Music Studios») в Лондоне совместно с Тристрамом Кэри и Дэвидом Кокереллом, которая в том же году разработала знаменитый портативный аналоговый синтезатор «VSC3» («Voltage Controlled for Studio with 3 Oscillators» / «Студийный синтезатор с 3 генераторами, управляемый напряжением»). В студии работали многие ранние психоделические рок-группы, такие как «Pink Floyd», «White Noise» и «Kraftwerk», а также поп-музыканты, в частности Дэвид Боуи. Петр Зиновьев окончил Оксфордский университет, где получил докторскую степень по геологии.
Данное интервью было взято в 2010 году в Стамбуле по случаю открытия «The Morning Line», междисциплинарной арт-платформы. Впервые было опубликовано в книге: Matthew Ritchie: The Morning Line, ed. Eva Ebersberger and Daniela Zyman. Ed. «Walther König», Cologne, 2009.
Ссылки: «What the Future Sounded Like»/«Как звучало будущее», документальный фильм телекомпании «ABC TV»: youtube/8KkW8Ul7Q1I.
«Electronic Music Studios»: www.ems-synthi.demon.co.uk
ХУО: Что ж, начнем по порядку: как вы стали изобретателем? Какое было ваше первое изобретение?
ПЗ: Я бы сказал, что это был электронный секвенсер, который позволял выстраивать последовательность звуков без использования пленки. Прежде для этого нужно было нарезать пленку и склеивать куски в нужном порядке. Секвенсер стал моим первым изобретением. Вторым – семплер, который мог воспроизводить сэмплы окружающих звуков через компьютер. Это было где-то в 1960–1961 годах. Сэмпл, правда, мог длиться всего около секунды.
ХУО: Одним из первых изобретателей в области звука, у кого я брал интервью, был покойный Оскар Сала[86]. Мы беседовали в Берлине. Он показал мне свой «Тритониум» [«Mixtur-Tritonium», полифонический электронный музыкальный инструмент], на котором он синтезировал крики птиц для фильма Хичкока. Скажите, испытали ли вы на себе чье-либо влияние?
ПЗ: Насчет начала своей карьеры не знаю – тогда мне казалось, я один такой в мире. Я думал, никто больше не занимается этим, поэтому никаких кумиров у меня не было. Конечно, позже я узнал, что в Америке, например, Макс Мэтьюс из «Bell Labs»[87] вел аналогичные исследования, и тогда уже начал интересоваться. В музыкальном плане влияний было много, но отдельно нужно отметить двоих – Харрисона Биртуисла[88] и Ханса Вернера Хенце[89].
ХУО: Чем вас вдохновили Бристуисл и Хенце?
ПЗ: Я сотрудничал и с тем и с другим, и в работе оба были очень целеустремленны и талантливы. Они приезжали ко мне в студию, и мы подолгу увлеченно трудились. Хенце проводил со мной в Лондоне по нескольку недель.
ХУО: Вы написали либретто для оперы Бристуисла «Маска Орфея» («The Mask of Orpheus», 1986).
ПЗ: Верно. Еще я работал с ними над многими электронными произведениями. Одно из знаковых называлось «Хронометр» («Chronometer»). Для его создания мы использовали записи тиканья часов, в том числе Биг Бена в Лондоне. Недавно «Хронометр» вышел в квадрофоническом формате на DVD. По-моему, это была первая в мире запись на DVD с объемным звучанием, в 2009 году. Очень волнительное событие.
ХУО: Не могли бы вы рассказать о Максе Мэтьюсе?
ПЗ: Он работал в «Bell Labs» в 1950-х годах. Его программа «MUSIC» послужила основой для разработки «Max/MSP» – универсального инструмента для разработки музыкальных приложений. Он занимался тем же, что и я, хотя мы друг о друге ничего не знали. В его распоряжении была вся лаборатория «Bell», зато у меня первого в мире дома появился персональный компьютер! Это было в 1960-х.
ХУО: То есть вы не располагали поддержкой никаких организаций. Работали по принципу «сделай сам».
ПЗ: Да. Приятно осознавать, что у меня появился домашний компьютер раньше, чем у кого-либо на земле. Сначала это был «PDP-8» компании «Digital Equipment», но даже его в то время еще ни у кого не было.
ХУО: Кроме того, что вы работали в домашней студии, вы еще основали в 1969 году компанию «Electronic Music Studios» [«EMS»], чтобы выводить на рынок инновационные идеи, рожденные в вашей студии. Не могли бы вы рассказать о «EMS»?
ПЗ: Примечательно, что как раз на прошлой неделе «EMS» возобновила деятельность в Корнуолле и снова начала производить синтезаторы. Поразительно, что их собирают из все тех же деталей, а они сейчас очень дорогие. Все хотят добиться старого аналогового звучания, поэтому синтезаторы снова ужасно популярны.
ХУО: Удивительно! И это снова доказывает то, что вы опередили свое время как минимум на 20 лет. Еще до 1970 года вы предвидели, что электронное музыкальное оборудование займет мировой рынок.
ПЗ: Да. Мы делали и большие синтезаторы. Один из таких, «Synthi 100», стоял в кельнской студии Штокхаузена [с начала 1970-х].
ХУО: Вы говорили, что еще в ранние годы, начиная с 1960-х, часто имели дело с прогрессивными авангардными рок-группами, такими как «White Noise», а также с «Kraftwerk», «Tangerine Dream», с Брайаном Ино и Дэвидом Боуи. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь об этом.
ПЗ: Все началось с моего сотрудничества с Полом Маккартни, еще до создания «EMS». У меня в студии висит симпатичный постер фестиваля, в котором участвовал Маккартни и «Unit Delta Plus»[90] – под таким названием я тогда работал. С тех пор моей авангардной студией начали интересоваться прогрессивные деятели из мира поп-музыки, потому что больше нигде в Европе нельзя было опробовать или приобрести подобное оборудование. Мало кто, однако, смог найти ему достойное применение, как это сделали, например, «Pink Floyd». Чаще всего, синтезаторы покупали просто потому, что они издавали необычные звуки.
ХУО: Многие приборы, разработанные в «EMS», вы опробовали в своей личной студии. И из вашей студии они выходили уже совершенно уникальными устройствами, на основе которых потом велись дальнейшие разработки. На вашем веб-сайте есть целый список ваших некоммерческих идей.
ПЗ: Полагаю, это те вещи, которые мы решили не продавать. Вы, наверное, видели фотографию студии – это хитросплетение миллиона проводов. Мои инженеры, в первую очередь Дэвид Кокерелл, могли сделать все, что я только ни пожелаю. Так что устройства из того списка мы собирали в единичном экземпляре, и они использовались только для создания экспериментальной музыки. ‹…›
ХУО: Вы – ученый, изобретатель, композитор, еще раз изобретатель и источник вдохновения для многих моих друзей из мира музыки, например Рассела Хасуэлла[91], который часто упоминает ваше имя. Еще вас называют русским англичанином эпохи Возрождения. Для вас важно совмещать несколько сфер деятельности?
ПЗ: Несомненно. Я думаю, когда-то давно на меня сильно повлияла книга Артура Кестлера «Творческий акт» («Act of Creation», 1964), в которой он развивает идею о том, что мыслительный процесс всегда одинаков, сочиняешь ли ты стихотворение или пишешь музыку. Вдохновение приходит ни с того ни с сего, его источник для каждого индивидуален, но суть процесса всегда одна и та же. На мой взгляд, ход мысли при этом тоже осуществляется одинаково. Будучи и ученым, и музыкантом, я могу сказать, что вдохновение сходно в обоих случаях. Тебе является некое озарение, неважно, научный или художественный оно носит характер.
ХУО: Вы еще ничего не сказали про явление случайности, управляемой вероятности и их роли в вашей работе.
ПЗ: Большую роль играют счастливые случайности и интуитивная способность находить их. В Лондонском институте современного искусства [ICA] в 1960-х проходила – и пользовалась большой популярностью – замечательная выставка под названием «Кибернетическая серендипность». На ней выставлялся мой компьютер. Посетители могли насвистеть что-нибудь в него, а он потом воспроизводил различно обработанные вариации их свиста. Я считаю, явление управляемой случайности очень важно. Когда на скрипке нужно сделать вибрато, каждый музыкант будет делать его по-разному и с разной скоростью – это случайность, но каждый скрипач управляет ей.
ХУО: Архитектор-визионер Седрик Прайс[92], который спроектировал «Дворец веселья» («Fun Palace»)[93], говорил, что недостаток спонтанности – характерная проблема современного общества, и мне кажется, вы бы с ним согласились. Не могли бы вы рассказать о спонтанности и ее влиянии на вашу работу?
ПЗ: Я полностью с ним согласен. Нельзя думать, что для всего существуют правила. Правила нужны, чтоб их нарушать, и иногда нарушать кардинальным образом – так рождаются счастливые случайности. С наукой так же: нарушай правила, и наверняка совершишь открытие!
ХУО: Ваши изобретения опередили свое время. Когда я был в гостях у великого писателя-фантаста Станислава Лема в Кракове незадолго до его смерти, я видел у него дома огромное количество русских научных журналов и книг, и я понял, что наука, так сильно развитая в то время в России, оказала огромное влияние на его писательское творчество. Что связывает вас с наукой или ваш радар направлен в иную сторону?
ПЗ: Меня никогда не удивляют научные прорывы, потому что мне они кажутся неизбежными и предсказуемыми. Самое сложное – это инженерные задачи, и с ними никому не хочется сталкиваться. Сейчас, например, мы знаем, что термоядерный синтез решит энергетические проблемы планеты, и, будь у меня власть, я бы направил миллиарды фунтов в эту область. Но вместо этого люди продолжают улучшать ветряные мельницы. Мне всегда казалось логичным, что будущее надо учиться прогнозировать, но всерьез этим занимаются очень немногие.
ХУО: Есть ли у вас какие-то неосуществленные проекты, слишком масштабные или слишком мелкие, утопические задумки, мечты, проекты, не прошедшие цензуру или отметенные вами самим?
ПЗ: Мне приходит на ум синтезатор, который мы назвали «аналитической машиной». Ее производство стоило «EMS» в 1970 году 40 тыс. фунтов, и в итоге она проработала секунды две, после чего Пьер Булез увез инженеров в Париж. И вот я смотрю на этот неимоверно дорогой, весьма передовой для своего времени агрегат, который так и не заработал. А недавно Университет Йорка вызвался сделать его аналог в виде программного обеспечения. У них вышло прекрасно, так что, можно сказать, моя мечта осуществилась.
ХУО: Вашу мечту воплотили – это же фантастика.
ПЗ: Ну, не совсем воплотили. Не в изначальном виде, для этого пришлось бы запустить грандиозный инженерный проект. Сейчас я только начинаю заново открывать для себя возможности компьютерной музыки – я долгое время этим не занимался. Сейчас я словно рождаюсь заново, и это замечательно.
ХУО: Давайте поговорим о будущем. Каким вы его видите? Вы оптимистично настроены? Каким потенциалом обладают синтезаторы?
ПЗ: Не думаю, что у синтезаторов есть будущее. Я не верю, что в будущем еще будут представлять какой-то интерес вручную управляемые системы, будь то компьютерное обеспечение или самостоятельные устройства. Им будет место только в музее, как это случается со многими предметами искусства. Я считаю, будущее – в непосредственном взаимодействии мозга и звука, в новом способе написания музыки. Им грезят еще с 1950-х годов. Он бы поднял на новую ступень процесс создания электронной музыки. Попыток было много, как посредством компьютера, так и синтезатора, но они все еще весьма примитивны. Сейчас мы не ограничены так, как, скажем, композитор в XVIII веке был ограничен набором инструментов, писал ли он для оркестра или сольного исполнения. Мы можем сгенерировать любой звук, но у нас все еще нет подходящего инструмента управления им. Наши компьютерные технологии в этом плане пока очень, очень примитивны.
ХУО: Напоследок я хотел спросить о вашем наследии. Несомненно, ваши труды повлияют на молодое поколение. В ходу ли ваше оборудование? Я смотрю на фотографии ваших синтезаторов – они словно произведения искусства. «Sequencer 129» особенно хорош. Вот и портативные устройства, и «Sequencer 256» – тут на фотографиях все ваши знаменитые изобретения.
ПЗ: Я всегда придавал большое значение дизайну. Дизайн очень важен для любого устройства. Чем лучше машина выглядит, тем, скорее всего, лучше она работает. Красивый самолет выглядит надежнее, и, вероятно, так оно и есть. Вот, например, моя старая партитура и фотография студии. Мне было очень важно, чтобы все выглядело презентабельно. То же относилось к брошюрам и всей нашей печатной продукции – для всего требовался идеальный дизайн. И это важно: без хорошего дизайна товар не возымеет успеха. В этом отношении мои изобретения могли бы прожить еще долго. Что же касается звука, то он устаревает очень быстро.
ХУО: Одним из ваших самых известных изобретений остается синтезатор «VCS3». Каким был бы современный аналог «VCS3»? Каким бы он стал в 2010 году?
ПЗ: Ну, к 2050 году он станет уже просто Wi-Fi соединением между мозгом и компьютером будущего.
ХУО: То есть мы уже движемся в этом направлении?
ПЗ: Да, несомненно. Только закройте глаза и представьте, что вы уже там. Настоящее чудо, не правда ли? Я надеюсь, вам и тогда тоже доведется брать интервью.
Родился в 1935 году в г. Колфакс, штат Калифорния. Живет и работает в г. Норт-Сан-Хуан, штат Калифорния.
Терри Райли – американский композитор и музыкант, который ввел в западную музыку композиционную форму, основанную на цикличных повторениях. Он известен как один из основателей минимализма в музыке. Он проводил ранние эксперименты с петлями магнитной пленки и системами для создания эффекта задержки звука, что в значительной мере повлияло на развитие экспериментальной музыки. В 1964 году он закончил работу над своим самым знаменитым произведением, революционным минималистским сочинением «In C». Эта ставшая знаковой композиция из 53 отдельных фрагментов воплотила концепцию новой музыкальной формы, которую составляют взаимосвязанные цикличные фразы. Терри Райли сотрудничал с Центром магнитофонной музыки Сан-Франциско, работал, среди прочих, с Полиной Оливерос, Стивом Райхом и Рамоном Сендером. Начиная с 1970-х годов Райли находился под сильным влиянием его учителя и мастера индийского пения Пандита Прана Ната, у которого также учились Ла Монте Янг и Мариан Зазила. Через него Райли познакомился с рагой, одной из древнейших традиционных мелодических моделей в индийской музыке, которая служит основой для импровизации и свободной интерпретации композиций-раг. Райли учился в колледже Шаста, Государственном университете Сан-Франциско и Консерватории Сан-Франциско, а позже получил степень магистра искусств по композиции в Калифорнийском университете в Беркли, где он учился у Сеймура Шифрина и Роберта Эриксона.
Данное интервью, ранее не опубликованное, было взято в Манчестере на Манчестерском международном фестивале в 2011 году.
ХУО: Не могли бы вы рассказать о вашем сотрудничестве с художниками? Я знаю, что еще в молодости вы были знакомы с Уолтером Де Мария…
ТР: С Уолтером Де Мария мы познакомились в студенческие годы – мы много лет учились вместе в Калифорнийском университете в Беркли[94]. Я думаю, на ранней стадии моей карьеры на меня во многом повлияли его концепции минимализма в искусстве и проектировании конструкций простых геометрических форм. Я работал со многими художниками. Один из моих любимых – это Брюс Коннер, калифорнийский художник, который делал ассамбляжи и снимал фильмы. Я познакомился с ним в начале 1960-х и написал музыку для нескольких его фильмов, в том числе «Перекрестки» («Crossroads», 1976) и «В поисках грибов» («Looking for Mushrooms», 1968).
ХУО: Когда я читаю ваши интервью или другие источники о том времени, у меня складывается впечатление, что это был удивительный период, почти как период колледжа «Блэк Маунтин». Там были и Ла Монте Янг, и Полина Оливерос[95] – вы говорили, в вашей жизни она сыграла важную роль. Но о колледже «Блэк Маунтин» знают все, чего не скажешь о Беркли.
ТР: Да. Мы были студентами музыкального отделения университета в Беркли, и все, что там происходило, устраивали сами студенты без участия академического руководства. Просто так вышло, что в то время было очень много талантливых людей, и они все съезжались в кампус Калифорнийского университета. Дэвид Дель Тредичи и Полина Оливерос, Ла Монте Янг, плюс Лорен Раш, Дуглас Лиди и Жюль Лангерт – все они очень талантливые молодые композиторы с интереснейшими для своего времени идеями. Мы устраивали в Калифорнийском университете много хеппенингов, в духе Дада. Мы с Уолтером Де Мария и Ла Монте Янгом в 1961 году организовали большой хеппенинг во внутреннем дворе здания факультета архитектуры, и о нем до сих пор вспоминают. Еще один мы провели в Сан-Франциско на «Старой макаронной фабрике», популярном тогда ночном заведении. Ла Монте написал в студенчестве некоторые из своих самых незаурядных работ, в частности «Поэму для столов, скамеек и стульев» («Poem for Tables, Benches and Chairs», 1960) и «Видение» («Vision», 1959). Через Уолтера Де Мария я познакомился с дадаизмом. Нас в то время очень интересовали Флуксус и Дада. Мы писали свои произведения, а потом разом представляли их вместе на таких мероприятиях. Мы не составляли заранее никакой программы, поэтому каждый просто приходил со своими заготовками и исполнял их. Но по духу произведения были близки друг другу, и еще в те дни мы сотрудничали с Анной Халприн, которая была тогда (и сейчас остается) очень авторитетной танцовщицей, основавшей свою танцевальную труппу [«Мастерская танцоров Сан-Франциско» / «San Francisco Dancers' Workshop»] в округе Марин, через залив от Сан-Франциско. [В 1959–1960 годах] мы с Ла Монте Янгом были музыкальными руководителями труппы Анны Халприн, и частью музыки, написанной нами в то время, мы обязаны ей[96]. ‹…›
ХУО: Вы сказали, что знакомство с Ла Монте Янгом – в некотором смысле самое важное в вашей жизни и что, на ваш взгляд, именно его радикальные идеи положили начало новому течению.
ТР: Знаете, его воззрения и его творческий путь в музыке совершенно исключительны. Его идеи приходили к нему словно с другой планеты – настолько был уникален его взгляд, его музыка, его чувство звука и времени. Я ничего подобного больше не встречал в своей жизни, а ведь он тогда был очень молод. Он как будто обладал врожденным умением обращаться со звуком. Когда я познакомился с ним, он стал для меня откровением. От него я узнал о многих течениях в музыке, например о японской музыке гагаку, которую исполняли при императорском дворе. У гагаку немало общего с его музыкой в плане пространственной ориентации. Он рассказал мне о новейших музыкальных хеппенингах в Европе, о которых я никогда не слышал, о музыке Карлхайнца Штокхаузена[97], Луиджи Ноно[98] и других. Он расширял мои музыкальные горизонты, и я многому у него научился. Прежде Ла Монте играл джаз. Мы часы напролет могли вместе слушать музыку и обсуждать музыкантов.
ХУО: А как вы узнали о Флуксусе? Были ли в Сан-Франциско каналы связи с ним?
ТР: Интерес к Флуксусу у меня возник благодаря Брюсу Коннеру и Ла Монте Янгу, и у меня завязалась переписка с разными членами этого движения – Диком Хиггинсом[99], Генри Флинтом, Рэем Джонсоном и другими. Мы посылали друг другу по почте чудные арт-объекты – вещи, которые мы просто находили на улице. К нам присоединились деятели из Европы, например Эрик Андерсен из Дании, Фольке Рабе и Ян Барк из Швеции. Драматург Кен Дьюи, с которым я в то время познакомился, работал с Анной Халприн и актерами «Живого театра»[100]. Все тогда увлекались межжанровыми проектами.
ХУО: Вместе с Мариан Зазила[101] Ла Монте Янг спроектировал «Dream House», «дом звука», который теперь существует как постоянный художественный объект. Он напомнил мне то, что в свое время в Париже сделал Пьер Анри[102]. Если говорить в общих чертах, он создал дом, каждая комната которого была наполнена разными звуками, и превратил его в постоянную инсталляцию. Еще я брал интервью у Ксенакиса – он рассказал мне о его «Политопах»[103]. Были ли у вас какие-то проекты, связанные с музеями, выставками или даже зданиями?
ТР: Да, и один из них, кстати, выставят в Лилле (Франция) в начале февраля [2004]. В 1968 году я разработал объект для шоу «Волшебный театр» («Magic Theatre») в Канзас-Сити (штат Миссури), поставленного в галерее Нельсона-Аткинса, и он назывался «Аккумулятор задержки времени» («Time Lag Accumulator»): это была конструкция восьмигранной формы три-четыре метра шириной с несколькими зеркально расположенными комнатками внутри, размером как раз на человека, и их соединяло несколько дверей. В каждой комнатке стоял микрофон, который записывал все, что в него произносили, а через какое-то время эта запись воспроизводилась в другой комнате. В конструкции находилось одновременно несколько человек, и они все обрывочно слышали, что говорят в других комнатах и что потом проигрывается через магнитофонную систему задержки звука.
ХУО: Вы создали «полифонию зрителей», так?
ТР: Верно, но еще я пытался через задержку звука придать новую ориентацию времени и пространству. Находясь в этой конструкции, ты не совсем понимал, где ты и как найти выход. Ее воссоздали к фестивалю в Лилле в 2004 году[104]. Структуру сооружения изменили и обновили, и называется оно теперь «Аккумулятор задержки времени II». Оригинальный «Аккумулятор задержки времени» из «Магического театра» переправили в город Стоуни-Пойнт (штат Нью-Йорк) к [художнице] Шари Диенеш, соседке Джона Кейджа. Они из него сделали оранжерею…
ХУО: Мы подошли к вопросу, который я неизменно задаю в каждом интервью: вопрос о нереализованных проектах. Не могли бы вы рассказать о проектах, которые еще не увидели свет, которые слишком велики для этого, подвержены цензуре или еще по каким-то причинам не были воплощены.
ТР: Почти все проекты, которые я задумывал, я хотя бы отчасти воплотил. У меня есть несколько долгосрочных проектов, например музыкальные произведения, которые я, как толстые книги, постепенно дописываю со временем, но смогу дописать до конца, только если проживу очень много лет. Одно называется «Книга Эбайэзуд» («The Book Of Abbeyozzud»), в нем только разнообразные гитарные партии для различных составов гитарного ансамбля. А в другом произведении-книге есть только фортепиано, и оно называется «Небесная лестница» («The Heaven Ladder»)[105]. Еще один проект, который я пока не дописал, это «Кольцо святого Адольфа» («The Saint Adolph Ring») – моя единственная опера. Она основана на творчестве Адольфа Вельфли[106]. Мы несколько раз ставили части этой оперы в 1992 году[107], но я все еще работаю над ней. В ней много импровизации, поэтому партитуры как таковой у нее нет. Мы импровизировали музыку на либретто Джона Дедрика, замечательного актера и драматурга, сыгравшего самого Вельфли в этой постановке. Я писал музыку и исполнял [пел, играл на фортепиано и синтезаторе] на основе этого либретто, но на разных концертах песни звучали совершенно по-разному. Кроме меня и Джона Дедрика на сцене была только Салли Дэвис, прекрасная певица, актриса и танцовщица. Фрэнк Рэгсдейл анимировал и проецировал рисунки Вельфли. Части напоминающих мандалы фигур удивительным образом оживали и танцевали на экране. Над декорациями работала художница Карен Изикел, отталкиваясь от рисунков Вельфли. Звукорежиссер Микаил Грэхем добавлял звуковые сэмплы и работал со звуком во время живого исполнения. Мы дали несколько очень неплохих концертов, но до конца произведение так и не довели.
ХУО: Чем вас заинтересовали рисунки Вельфли?
ТР: Однажды на Пасху в начале 1990-х я играл концерт со знаменитым певцом Пандитом Праном Натом[108] в Бернском музее изобразительных искусств, и там я впервые увидел произведение Вельфли[109]. Конечно, оно произвело на меня огромное впечатление, я был ошеломлен масштабом его синтетического подхода к искусству. В работе Вельфли было все – поэзия, музыка, образы, биография, автобиография, выдуманная биография, нотное письмо – весьма пророческое для его времени. Были коллажи – он даже использовал изображение банки супа «Campbell's» на несколько десятилетий раньше Уорхола. Увидев творение Вельфли, я пришел в такой восторг, что почувствовал потребность каким-то образом задействовать его. ‹…›
ХУО: Не могли бы вы рассказать о произведении «In C» (1964)? На кого-то оно может произвести такое же впечатление, как Вельфли на вас, ведь оно занимает всего одну страницу партитуры и при этом состоит из 53 фрагментов.
ТР: Я хотел добиться от музыкантов максимального участия в композиции, чтобы они сами принимали решения и импровизировали, как в джазе, или индийской музыке, или североафриканской арабской музыке. На Западе нет подходящей формы музыки для подобной импровизации. Вернее, есть несколько методов, но все они не вписываются в мое видение. Я стремился к полной координации. Я хотел включить элементы фолка и других интересных мне стилей, но при этом сохранить возможность импровизации и различного исполнения на каждом концерте. Так я изобрел свой метод – и применил его в «In C», – который дает музыкантам возможность выбора. Хоть я и задал эти 53 модуля, есть огромное множество вариантов, как их можно сочетать между собой. Я поставил целью избавиться от дирижера, который указывал бы музыкантам, как играть и как направлять течение произведения, и хотел, чтобы ансамбль стал сплоченным организмом и по-своему выражал музыку. В этом состояла главная идея: чтобы музыканты сами определяли, как звучать композиции. Конечно, от чего-то надо отталкиваться, поэтому я написал для «In C» базовые компоненты, но так, чтобы их легко можно было развить. И у меня получилось: «In C» толковали тысячами разных способов, и я ни разу не слышал, чтобы хотя бы два из них повторяли друг друга.
ХУО: Я вчера слушал один из вариантов «In C» и задался вопросом, есть ли у вас любимые исполнения и можете ли вы их сравнивать между собой? У Элисон Ноулз была концепция «открытой партитуры»[110], которая подразумевает, что не может быть «неверной» интерпретации. Согласны ли вы с Флуксусом в этом отношении или одни интерпретации все же лучше других?
ТР: Я согласен, что не может быть «неверной» интерпретации, потому что это просто не вписывается в саму философию произведения. Есть только основа, которая задает некие весьма строгие рамки, но не диктует конечный результат. И все же знаете, бывает так: у человека много детей, но один для него все же особенный… Есть несколько трактовок, которые мне нравятся больше других, потому что мне ближе творческая фантазия их исполнителей. В частности, одна, записанная на лейбле «ATMA» группой музыкантов из Монреаля – ансамблем Общества современной музыки Квебека (Société de Musique Contemporaine du Québec) и Вокальным ансамблем Монреаля (Ensemble Vocal de Montréal). Вальтер Будро совместно с Раулем Дюге трактовали «In C» очень свободно и превратили ее в мини-оперу, в собственное сценическое произведение. Мне их идея показалась очень удачной и интересной – самому мне такое не приходило в голову. Особо надо отметить записи ансамблей «Bang on a Can All-Stars» и «Ictus». Они продемонстрировали невероятную точность и слаженность, их музыканты очень хорошо чувствуют медленные гармонические переходы в структуре и понимают, как чередовать волны звука.
ХУО: В контексте организации выставок меня очень интересует понятие полифонии, о котором писал Михаил Бахтин в исследовании произведений Достоевского[111]: его идея заключается в том, что каждый персонаж – это главный герой и между ними нет иерархии. Я хотел спросить у вас, какую роль полифония играет в вашем творчестве.
ТР: Я думаю, она выражается в том, что я часто создаю несколько одновременно звучащих слоев музыки, среди которых нет одной доминантной линии, а если и есть, то она может отойти на второй план и уступить место другой. Нет дирижера, нет руководителя, есть только единый дух. Как нити переплетаются в ткани, так в большинстве моих работ переплетаются темы и идеи, но из-за фактора случайности они складываются в общую картину по-разному. Мне нравится эта идея тем, что она вовлекает зрителя, дает ему выбор, на каком элементе музыкальной ткани сосредоточиться; словно сложная картина, как, например, текстурные картины [Марка] Ротко. Странно говорить о Ротко в контексте полифонии, тем не менее в его больших картинах, в неровностях текстуры можно разглядеть детали множества теней. Меня завораживают такие вещи, однако в то же время они вызывают во мне двойственное чувство, потому что я также люблю индийскую классическую музыку, в которой всегда присутствует партия солиста или единая линия мелодии. Поэтому в своих произведениях я такое тоже допускаю. Но делаю сольную линию достаточно сложной и с достаточным количеством отражений, чтобы у слушателя был выбор, за каким оттенком следовать. Выходит, есть два подхода к формированию структуры произведения, но эффект они могут производить один и тот же. Я научился этому у Пандита Прана Ната. Это был важный момент в моей жизни, когда я почувствовал, что мелодия и монотонность тоже могут представлять интереснейшую задачу. Я много работал над этим. На протяжении 26 лет будучи членом [Центра индийской классической музыки школы Кирана], я большую часть своих сил посвятил исследованию именно этой традиции.
ХУО: Двадцать шесть лет – немалый срок.
ТР: Да, я был с Пандитом Праном Натом до самой его смерти в 1996 году. Впервые в жизни я глубоко погрузился в традицию, чего не было с западной музыкой. Мое обучение проходило очень беспорядочно; как вы сказали, по большей части я был самоучкой: сначала учился играть на фортепиано на слух, потом какое-то время брал уроки, но в консерваторию никогда не ходил. Но в Индии я вместе с индусами получил их классическое образование. Пандит Пран Нат был человеком традиций, поэтому я учился так, как если бы родился в Индии.
ХУО: Судя по всему, проблема нотной записи вас тоже сильно тревожила, и в какой-то момент вы просто прекратили ей пользоваться.
ТР: В период с 1970 по 1980 год я ровным счетом ничего не записал на бумаге.
ХУО: Вы работали только с импровизацией?
ТР: Да, а еще я изучал индийские устные традиции, поэтому привык придумывать с ходу. Я много сочинял, но ничего не записывал.
ХУО: И как они сохранялись в памяти?
ТР: Ну, по крайней мере, они сохранялись в моей памяти. ‹…› Вчера случилась интересная вещь. Я был тут, в Париже, и кое-кто дал мне послушать концерт, который я написал в 1978 году и когда-то исполнил в Париже. Я совершенно не помнил этого произведения. Я бы запросто поверил, если бы мне сказали, что его автор кто-то другой… хотя я и узнал свой стиль игры. Иногда со временем забываешь о написанных работах. Тот концерт длился 90 минут и был одним из моих лучших, но с годами я забыл о нем напрочь.
ХУО: Получается, некоторые произведения выживают только благодаря записям?
ТР: Да, на пленке или других носителях.
ХУО: Расскажите, пожалуйста, о произведениях того периода, когда вы находились под влиянием устной традиции.
ТР: В то время я в равной степени много сочинял сам и изучал индийскую классическую музыку. Написание композиций я начинал с ритмической структуры и тональности и из них развивал остальную часть. Они бывали очень длинными, как раги, и тоже делились на части. Хоть это и не были раги, отсылка к ним была очевидна.
ХУО: Не могли бы вы рассказать о сочинении «Ноугуд» [«Poppy Nogood and the Phantom Band All Night Flight», 1968]? Молодые музыканты теперь часто обращаются к нему. ‹…› В одном интервью вы сказали, что в то время в вашем творчестве играли определенную роль некие видения. Когда эту композицию сейчас слушают, многие говорят, что при этом ощущают «нечто».
ТР: Раз уж вы заговорили о видениях, то нужно сказать, что на моей жизни в то время сильно сказалось употребление наркотиков. Я экспериментировал с психоделиками, ЛСД, грибами, марихуаной и гашишем и, конечно, открыл для себя много нового. Я проникся интереснейшими идеями о музыкальной перспективе, о том, как раскрыть ноту и создать из нее одной целую вселенную. Я не занимался тем, чем Ла Монте Янг, но я приобрел ценный психоделический опыт, когда время замедляется настолько, что ты начинаешь видеть больше деталей внутри малого периметра. Думаю, так я пришел к форме произведений вроде «Поппи Ноугуд», в которых не так много элементов, но эти элементы кружатся в космическом водовороте; как планеты вращаются вокруг Солнца, так части обращаются вокруг центральной идеи и тянутся к ней, развивая отношения между собой. Я остановился на такой структурной модели, но ее нельзя назвать интеллектуальной, потому что она основана на моих личных чувствах и ощущениях от звука. Я писал ее сердцем, а не разумом.
ХУО: К «Поппи Ноугуд» нотации тоже не было?
ТР: Нет, не было.
ХУО: То есть сохранились только записи.
ТР: Да. Ее собираются сыграть на фестивале в Лилле, поэтому я посоветовал исполнителю послушать записи и воссоздать композицию через них. Нотная запись противоречит замыслу, ведь это устный опыт, и он никак не должен быть связан партитурой. По сути, его структуру держат только отражения звука. «Поппи Ноугуд» перекликается с «Аккумулятором задержки времени», с той моей системой задержки звука, в том смысле, что произведение находится в зависимости от временного цикла и от того, в каком месте этого цикла находишься ты. Нет никакой возможности графически записать его партитуру, потому что она разная каждый раз, и музыкант должен слушать и встраиваться в этот цикл, и каждая новая серия фраз должна соответствовать этому циклу. Единственное, что можно записать, так это сами повторяющиеся фрагменты, как я сделал с «In C».
ХУО: Вы очень рано начали использовать пленку и систему петель магнитной пленки. Я читал, что вы разработали ее вместе с друзьями в 1962 году в Парижской студии ORTF [Offce de Radiodiffusion-Télévision Française / Студия радио- и телевещания Франции]. Примерно в то же время в Сан-Франциско появилась организация под названием Центр магнитофонной музыки Сан-Франциско. Позже пленочные системы получили широкое распространение, но в 1960-х пленка была еще новым носителем.
ТР: Не забывайте, что в то время композиторы не могли работать с синтезируемым звуком ни в какой иной форме. Были звуковые генераторы, электроорганы и еще несколько инструментов, которые производили звук посредством электроники. А пленка была единственным носителем, и с ней мы чувствовали себя так, как если бы впервые видели себя в зеркале. Раньше звук нельзя было записать. С появлением этого «зеркала» мы смогли получить отражение, а потом обнаружили, что можем играть с этим зеркалом и менять элементы, а пленочная петля стала самым распространенным приемом. Саму петлю можно проигрывать огромным количеством способов – мы пробовали регулировать скорость прокрутки пленки вручную, воздействовать непосредственно на магнитную головку – проматывая на ней пленку, можно добиться глиссандо и других музыкальных эффектов…
Многих музыкантов заинтересовала эта идея, к тому же почти каждый мог купить простенький дешевый магнитофон и начать экспериментировать у себя дома.
ХУО: Я брал интервью у Пьера Булеза, Штокхаузена и Эллиота Картера, и все они рассказывали, что на заре их деятельности, в 1950-х годах, работа проходила в «больших студиях». У вашего поколения подход куда более самостоятельный, и я хотел спросить, связано ли это с появлением пленки и новых технологий? Вы предвосхищали нынешнее поколение, которому для работы нужен один только ноутбук.
ТР: Что касается упомянутых вами больших студий, вроде студий в Кельне или Милане ‹…›, то там роль сыграла среда, в которой росли люди. Я рос в культуре Сан-Франциско, и на нас больше повлияли поэты-битники, которые представляли контркультуру, так что никому не нужны были «большие студии». Мне не приходило в голову основать какую-то организацию и идти против своей не ограниченной ничем свободы. Я предпочитал оставаться в музыкальном андеграунде, а не связываться с академиями или центрами, хотя позже Рамон Сендер, Полина Оливерос, Мортон Суботник и другие все же основали Центр магнитофонной музыки Сан-Франциско, где они культивировали экспериментальное искусство и музыку.
ХУО: Но вы по-прежнему придерживаетесь своих взглядов и не хотите создать собственный институт?
ТР: Да, мне это неинтересно.
ХУО: Еще я хотел спросить про ваш рабочий процесс. В интервью я часто задаю вопрос о личных студиях и лабораториях. Сейчас, в эру интернета, все говорят о постстудийной практике. Не могли бы вы рассказать о своем рабочем месте, о поездках, о вашей организации времени в поездках и, главное, про уединенное ранчо близ Сан-Франциско, где вы работаете. Однажды я прочел, какой у вас распорядок: вы встаете ранним утром и начинаете день с молитв, слушаете индийскую классическую музыку и 4–5 часов упражняетесь в пении…
ТР: Знаете, я тружусь как отшельник, в том плане, что я работаю по многу часов, в одиночестве и, как вы отметили, стараюсь соблюдать дисциплину. Чаще всего первую половину дня я уделяю рагам. Я прочел одну книгу о Керуаке, в которой говорилось, что, перед тем как начать писать стихотворение или что-то еще, он читал молитву. Так повлияло на него католическое воспитание. Одна из вещей, которые я осознал благодаря Пандиту Прану Нату, – это то, что важно обозначить перед вселенной свои намерения, прежде чем начать труды. Важно почувствовать связь с тем, что больше тебя самого. Я помню об этом при работе. Я понял одно: когда начинаешь с мысли: «Я силен, и мне по плечу то, что я собрался сделать», шансов добиться успеха у тебя меньше, чем если ты сначала попросишь разрешения.
ХУО: В таком же духе высказался американский художник Уистлер: «Искусство случается само». Могли бы вы сказать, что «музыка случается сама»?
ТР: По-моему, так и есть. Хоть она и становится плодом нашего взаимодействия с творческим духом внутри каждого из нас, мы в то же время слитны с ним, слитны друг с другом, мы с вами едины, только в реальности кажется, будто это не так. Когда ты осознаешь это и начинаешь использовать, твой подход к работе значительно выигрывает. Например, у тебя не бывает творческого кризиса, ведь ты знаешь: все, что ты создашь, будет не зря. Иначе вселенная не позволила бы тебе это сделать.
ХУО: Вы сказали, что соблюдаете строгий режим при работе, но вас это не тяготит, что, по всей видимости, объясняется таким взглядом на вещи.
ТР: Сегодня, например, я совсем не соблюдаю режим – я в Париже, я определенно встал не в пять утра и не начал работать. Когда я в пути, я отдаюсь на волю «путешественности», знаете, я просто еду и стараюсь хоть как-то сохранять порядок – писать музыку и упражняться. А дома я веду домашний образ жизни с его строгим режимом, поскольку там у меня под рукой есть фортепиано и все мои инструменты.
ХУО: Для вас важно иметь собственное рабочее место?
ТР: Да, мне нужно рабочее пространство, и это самое главное, что мне нужно. Я могу работать в пути, но дома обстановка куда благоприятнее.
ХУО: Еще вы говорили, что не стремитесь постоянно вперед, чтобы привлечь внимание. Вы научились у Ла Монте Янга ждать, пока музыка сама не примет нужное направление – в этом есть какая-то восточная идея терпения и спокойствия.
ТР: Со временем начинаешь понимать, что каждый день ставит перед тобой новые задачи. Каждый день разный. Во время работы в какой-то день ты не можешь понять, куда движешься, но не останавливаешься и продолжаешь работать, не переживая из-за этого. В другой день все станет ясно, и тебе просто надо принять, что творческий процесс – это долгий путь. Надо осознать, что, если сейчас произведение не случилось, возможно, оно случится через 10 лет, и тут нет ничего плохого, просто таково творчество. Скорее всего, многие из нас оставят после себя много незаконченных работ – вы спрашивали про незавершенные проекты, – так вот, после смерти у нас их останется предостаточно.
ХУО: Дьердь Лигети мне так и сказал: у него нет времени на встречу со мной, потому что ему уже 80 лет, а у него все еще не написанной музыки на 40 лет вперед.
ТР: Однажды в интервью у 90-летнего Пау Казальса, виолончелиста, спросили: «Почему вы все еще занимаетесь по три часа в день, ведь вам 90 лет?» Он ответил: «Потому что, мне кажется, я прогрессирую». И это в самом деле так. Деятели вроде Лигети или Кейджа, которым за 80 или 90, Эллиота Картера, – я уверен, они все считают, что продолжают совершенствоваться.
ХУО: Что связывает вас с Кейджем? После Парижа вы в 1965 году приехали в Нью-Йорк, и я хотел спросить, как вы с ним соприкасались, ведь у вас, очевидно, много общего, например интерес к явлению случайности. Состоялся ли у вас диалог?
ТР: Я виделся с ним раз 10–12 в жизни, и мне он очень нравился, хоть у нас и были разные взгляды на музыку. Самое главное, что нас объединяет, это влияние восточной мысли, в его случае буддизма. Для западной музыки очень полезна буддистская идея принятия вещей такими, какие они есть, вместо стремления переделать их. Я думаю, в этом заключался урок, которому я научился у Джона Кейджа. С годами я все больше начинаю ценить его творчество, наблюдая, как философия отражалась в его работах, самых главных работах. В студенчестве мне как-то выдалась возможность поработать с ним: он приехал в Калифорнию, и мы участвовали в его концерте. Это был очень ценный познавательный опыт.
ХУО: В 1980-х вы снова начали работать с нотацией, которую называли «продолжением импровизации». В нашей с ним беседе Булез сказал, что для него партитура никогда не завершена, он не верит, что нотация может быть окончательной, она скорее в вечном «processus en cours». Не знаю, как это лучше перевести – «текущий процесс»?
ТР: Испытательное состояние, я бы сказал.
ХУО: Еще мы говорили о «partition de partition», партитуре партитуры. Есть ли в ваших последних нотациях что-то, что требует вечного совершенствования и доработки, и как в них отражена импровизация? Считаете ли вы уместным термин «партитура партитуры»?
ТР: Нет, в моем случае подход совсем иной. Я пишу очень минималистичные нотации – обозначаю только высоты и ритмы. Я бы согласился с тем, что партитура никогда не закончена, но не в смысле нотации, а в смысле исполнения. Когда нотационные знаки начинают вырисовывать структуру произведения, я считаю, надо сразу нести его музыкантам и полагаться на их профессиональные навыки и слух, поскольку чем-чем, а этим они обладают. Я убедился в этом, когда работал с квартетом «Kronos». Имея дело с музыкантами, в совершенстве владеющими своими инструментами (чем я похвастаться не могу), я просто обсуждаю с ними возможные варианты исполнения, и мы продолжаем вместе работать уже после написания партитуры, из чего в результате появляется произведение. Оно сильно отличается от того, что я изначально написал, потому что в моей партитуре не хватает диакритических знаков: их не может быть на бумаге, они существуют только в живом исполнении.
ХУО: Как вы работаете над партитурами?
ТР: Сейчас я, конечно, пользуюсь компьютерными программами. Они оказались для меня чрезвычайно полезными, потому что мне как импровизатору нужно услышать несколько разных вариантов, а когда пишешь от руки, каждый раз приходится все переписывать. На компьютере можно вырезать и вставлять куски в любом порядке. Компьютер стал моим добрым другом, и наше «знакомство» прошло очень успешно.
ХУО: Когда вы начали пользоваться компьютером?
ТР: Где-то в 1985 году.
ХУО: Это очень давно.
ТР: Я начал при первой возможности. Как только появились рабочие программы, я сразу стал их использовать.
ХУО: В отличие от некоторых других композиторов, у вас нет своей школы. Булез, например, учредил институт IRCAM. Вы всегда сторонились организаций и держались обособленно. Как вы видите преподавательскую деятельность? Как диалог с учениками? Как бы вы ее определили? Вам доводилось преподавать в университетах или школах?
ТР: Я десять лет преподавал в колледже Миллс в Окленде (штат Калифорния), где работал Дариюс Мийо. Я примкнул к череде композиторов, преподававших там, вслед за Лучано Берио, Леоном Киршнером и самим Дариюсом Мийо. Кроме того, вместе с Пандитом Праном Натом мы вели там занятия по североиндийскому пению раг. Тогда я единственный раз в жизни связал себя с учреждением, и мне это нравилось, в первую очередь потому, что мне дозволялось делать что угодно. В других институтах мне не дали бы учить композиторов на занятиях по композиции пению раг. Я осознал, какое большое количество композиторов, даже искушенных в сложных формах, не может спеть гамму. На мой взгляд, они должны уметь управлять своим голосом и на практике почувствовать процесс рождения музыки. Многие композиторы работают очень рассудочно и видят музыку как архитектуру, в чем я не могу их упрекнуть, но все же они упускают то огромное удовольствие, которое испытываешь от извлечения настоящего звука. ‹…›
ХУО: Рага – крайне аутентичная музыкальная форма. Как ей можно научить западных музыкантов?
ТР: На начинающего музыканта раги могут оказать большое влияние. Замечательно то, что тебе не нужно изучать всю огромную традицию – на это может уйти вся жизнь, – но важный урок заложен уже в ее основах. Базовые принципы – интонирование, резонансы, удовлетворение от резонирующего тела – отсутствуют в западной музыке, в большинстве случаев основанной на равномерном сдвиге строя. В качестве примера среди западных работ можно привести «Хорошо настроенное фортепиано» [«Well-Tuned Piano», 1964 – наст. вр.] Ла Монте Янга, своеобразную Библию натурального строя[112] для композиторов. Сто лет назад мы потеряли традицию строя, когда стандартом стала равномерная темперация[113]. Главный принцип равномерной темперации заключается в том, что все ноты звукоряда удалены друг от друга на равные интервалы. Но ведь для этого надо, чтобы каждая нота была слегка вне строя.
ХУО: Чтобы их можно было упорядочить.
ТР: Я бы привел в качестве аналогии гомогенизированное молоко – молоко, в котором равномерно распределены сливки. Мы лишены насыщенного слоя, есть только «пастельные» тона без отчетливых форм и цветов. Чистым интервалам присуща яркая выразительность, резонансы обладают индивидуальностью; каждый интервал уникален и отличается окраской от следующего. При равномерной темперации оттенки цветов приглушаются. Нужен целый набор интервалов, чтобы создать экспрессивный образ. Когда кто-то играет голыми трезвучиями, возникает диссонанс. Отсюда – свойственное равномерной темперации беспокойство в музыке. Ты хочешь скорее перейти к следующему аккорду, потому что тот, на котором ты сейчас, не звучит как надо. В музыке в натуральном строе можно подолгу оставаться на одном аккорде и чувствовать полноту резонанса.
ХУО: Как на ваше творчество повлияли другие дисциплины, например кино или литература?
ТР: Я думаю, наибольшее влияние на мою работу имела архитектура. Мне нравится, что Майкл Макклур использует слово «источник», а не «влияние»: у нас есть не влияния, а источники. Я бы сказал, моими источниками были и кино, и архитектура, и поэзия. Когда видишь, как другие делают то же, что и ты, только посредством других медиумов, иногда находишь для себя новые решения.
ХУО: Нравятся ли вам работы молодых композиторов? Может, прочите кому-то большое будущее?
ТР: Может показаться, что я слишком высокого мнения о династии Райли, но музыка моего сына Джиана произвела на меня довольно сильное впечатление. Уникальной личностью был Джон [Каннингем] Лилли. Он изучал межвидовые коммуникации ‹…› Я виделся с ним несколько раз. Однажды мы вместе работали на мексиканском побережье. Я пел через микрофон в подводные динамики раги для дельфинов, а Джим Ноллман, его коллега, играл для них из лодки на гитаре. Мы пытались выявить их реакцию на нашу музыку. Меня заинтересовал этот объект исследований, и так началось наше сотрудничество. Позже я приезжал к нему домой в Малибу и опробовал его изолирующую капсулу. Она еще называется камерой сенсорной депривации. Снаружи она выглядит как саркофаг, довольно жутко. Когда закрываешь за собой люк, оказываешься в полной тишине и темноте. В камере ты лежишь на поверхности небольшого слоя 90-процентного соляного раствора температуры тела. Этот опыт сравним с эффектом от ЛСД или другим психотропным воздействием, когда начинаешь видеть и слышать то, чего нет на самом деле, и это необыкновенное ощущение. Я пробыл в капсуле около часа, а потом вдруг сглотнул, и это событие приобрело для меня невообразимый масштаб. Джон Лилли сам изобрел эту капсулу и ежедневно погружался в нее. Одновременно он принимал психоделические вещества и вел журнал своих впечатлений. В его книгах запечатлены его трипы. ‹…›
ХУО: Я работаю в музее, и мне всегда интересно читать, как художники, архитекторы или композиторы представляют себе музеи. Какими их видите вы? Какие ваши любимые музеи? Каким бы вы могли себе вообразить музей музыки?
ТР: Для меня музеи, особенно музеи современного искусства, – это прекрасное место для того обогащения, о котором я говорил раньше: там ты можешь увидеть, как работают другие художники, и почерпнуть что-то от них. Иногда, когда что-то производит на меня сильное впечатление, я думаю: «Я бы хотел воплотить подобное через звук». Я понимаю принципиальное отличие музыки от изобразительного искусства: публика не может воспринимать ее так же динамично, как картины, скульптуры или инсталляции в галереях. Я думаю, в первую очередь это связано с временной ориентацией звука, а во-вторых, концерт требует исполнителя и контакта с аудиторией. Без живого исполнителя музыка в музее потеряет очень многое, даже если это звуковая инсталляция. Наверное, поэтому решение так и не было найдено и поэтому у нас все еще есть концерты. Концерты – это музей для музыканта, куда люди приходят, чтобы ознакомиться с его работой.
Родился в 1940 году в г. Конкорд, штат Нью-Гэмпшир, США. Живет и работает в г. Буффало и Нью-Йорке, США.
Тони Конрад – американский художник, композитор и авангардный режиссер, который прославился в кругах авангардных кинематографистов сначала саундтреком к ленте Джека Смита «Пламенные существа»/«Flaming Creatures» (1963), затем как режиссер фильма «Мерцание»/«The Flicker» (1965–1966). В качестве музыканта Конрад был одним из первых участников «Театра вечной музыки»/«Theatre of Eternal Music», ансамбля экспериментальной дроун-музыки, существовавшего в середине 1960-х годов и позже известного под названием «The Dream Syndicate», в который также входили Джон Кейл и Ла Монте Янг. В 1972 году он работал с краут-рок-группой «Faust» над их альбомом «Outside the Dream Syndicate», ставшим классикой минимализма в музыке.
В 2008 году в галерее Тейт-Модерн состоялось шоу «Unprojectable: Projection and Perspective», сопровождавшееся кинематографическими и видеоработами Конрада. В 2009 году его «Желтые фильмы» («Yellow Movies», 1972–1976) были представлены в рамках 53-й Венецианской биеннале. Сейчас он преподает в отделении Исследований мультимедиа (Department of Media Studies) Университета штата Нью-Йорк в Буффало, первом университете, в котором появилась отдельная программа, посвященная мультимедийному искусству. Конрад окончил Гарвардский университет, получив степень по математике.
Данное интервью было взято в кафе, а затем в холле ярмарки «Арт Базель» в 2007 году. Ранее опубликовано в книге: Hans Ulrich Obrist. Interviews, Volume II, ed. Charles Arsène-Henry, Shumon Basar and Karen Marta. Ed. «Charta Editions», Milan, 2010, P. 456–471.
ХУО: За ваш творческий путь вы совершили открытия в музыке, звуке, изобразительном искусстве и кинематографе. С чего все началось? На какой области вы сосредоточили свое внимание, прежде чем стали покорять остальные?
ТК: Это довольно личный вопрос. Не знаю, насколько это интересно другим людям, но мой отец познакомился с моей матерью, когда преподавал ей акварельную живопись. Он хотел стать художником, но ему приходилось работать портретистом и гримером. Я вырос в его студии и, конечно, ни при каких обстоятельствах не рассматривал карьеру художника. Я любил музыку, потому что она взывает к внутреннему миру. Отношения с музыкой для человека всегда особенны и прочны. Потом в какой-то момент у меня возник роман с математикой, в которой я, правда, в итоге разочаровался.
ХУО: Вы говорите о 1950-х?
ТК: Да, о начале 1950-х.
ХУО: В то время вы учились в музыкальной школе.
ТК: На самом деле я никогда не ходил в музыкальную школу, просто у меня был знакомый преподаватель, который устроил мне несколько уроков в консерватории Пибоди в Балтиморе. Я учился очень плохо, но мне повезло, что мой преподаватель был ненамного старше меня и смог вызвать во мне интерес. Когда он понял, что я не умею играть вибрато, что у меня не хватает экспрессии, он предложил мне брать у него уроки акустики. Он дал мне учебник и стал учить теории. И я много для себя извлек. Музыка для меня всегда представляла собой полезное, плодотворное пространство. В доме моей семьи музыка звучала нечасто. Фортепиано у меня появилось только потом. Так что мой учитель раскрывал для меня волнительные тайны. Он научил меня тому, что лучше всего усваиваешь новое, когда играешь на скрипке очень медленно и очень внимательно слушаешь.
ХУО: В Гарвардском университете вы учились, помимо прочих, вместе с Кристианом Вульфом[114]. Вы ходили на лекции Джона Кейджа и Дэвида Тюдора[115]. Кто тогда повлиял на вас в наибольшей степени? Кем были ваши кумиры?
ТК: У меня был хороший друг, Генри Флинт[116], с которым мы часто вели жаркие споры. Я в то время увлекался романтизмом – Чайковским, Брамсом. Он убедил меня, что я должен с идейной, с идеалистической точки зрения проникнуться Бахом и Бартоком, которые, на его взгляд, были самыми передовыми композиторами. Я стал намеренно слушать их и обнаружил, что и в самом деле могу полюбить вещи, которые раньше ненавидел. Для 17-летнего подростка это невероятное открытие. Я слышал, что в современной культуре есть вещи еще хуже, поэтому решил слушать все подряд и пытаться понять, в чем же суть. Я пошел на лекцию этого нью-йоркского композитора, который привел с собой на выступление друга-пианиста. Лектор рассказывал о подходе к композиции, в котором ноты не играют никакой роли. Для него не имели значения мелодия или гармония. По сути, он оставлял это все на воображение слушателя, а в композицию включал только набор случайных нот. Я пришел в восторг. Придя к Генри, я сказал, что Джон Кейдж пошел куда дальше Бартока. Так у нас снова появился предмет для споров. Обстановка в университете располагала к фантазиям о культурных переменах, о культурном прогрессе, и важно обратить на это особое внимание, ведь, как мы понимаем, в долгосрочной перспективе довольно сложно поддерживать идею прогресса. Но эта фантазия проложила путь для революционных возможностей. Подход Кейджа оправдывал мои собственные эксперименты с культурным релятивизмом в звуковом искусстве. Я начал находить своих единомышленников и целиком ушел в музыку. Я не мог предположить тогда, что буду как-то связан с кино, живописью, миром искусства и так далее. Вот так сюрприз. Чтобы делать революцию, надо сначала ее почувствовать. А я не верю в революции.
ХУО: Вы однажды сказали, что революции – это трата энергии.
ТК: Да, их, на самом деле, просто не бывает.
ХУО: Не могли бы рассказать о вашем диалоге с Генри Флинтом в то время?
ТК: У нас с ним постоянно возникали прения на протяжении того периода, когда он разрабатывал свою теорию культурной деятельности, которую я, несмотря на ее сложность, могу в двух словах описать так: неприятие соперничества.
ХУО: Похоже, Флинт с фанатизмом относился к своим письменным трудам, в то время как вы были скорее склонны вести дискуссии. О ваших тайных беседах мало известно.
ТК: Это правда. Я думаю, одна из причин, по которым массовые тенденции в культуре отдаляются от критического анализа, заключается в том, что анализ происходит вне этих тенденций. Письменные труды становятся сложными для восприятия. Как, например, книга ранних трудов Флинта, под названием «Замысел высшей цивилизации» (Blueprint for a Higher Civilization. Ed. «Multhipla Edizioni», Milan, 1975), которая вышла уже довольно много лет назад и теперь уже считается апокрифической, и достать ее почти невозможно. Что ж, посмотрим. О чем вы меня спрашивали? Ах да, тайные беседы. Ну, я не знаю. Мы не пытались ничего держать в тайне.
ХУО: Почему вы переехали в Нью-Йорк?
ТК: Я тогда был другим человеком. Мы с вами сейчас пытаемся – что довольно глупо – воскресить события 45-летней давности, и моя память уже полна пробелов и неточностей, поэтому я могу сейчас придумать что угодно. Когда я в 1962 году приехал в Нью-Йорк, деятельность Флуксуса уже шла полным ходом. Я перебрался в Нью-Йорк в то время, когда жить там было дешево. Я снимал квартиру за 25 долларов в месяц и делил арендную плату со своим соседом, то есть платил 12 долларов в месяц. Я чувствовал себя независимым от экономической системы. Но такая экономическая независимость не способствовала реализации крупных проектов. У меня была коллекция заметок: клочки бумаги, буклеты и записи бесконечных идей и невоплощенных проектов. Я думал, со временем я буду работать все медленней и медленней и в старости эти бумажки мне пригодятся. Однако дел у меня пока хватает, и многие из тех замыслов еще только ждут своего часа.
Некоторые проекты просто превратились в партитуры или нотации достаточно общего характера, чтобы из них могли получиться самостоятельные произведения. В музыке ощущение культурного прогресса было настолько сильно, что, казалось, все самое главное происходит именно в музыке. Мы все подряд называли музыкальными сочинениями или композициями, чаще всего просто «сочинениями». «Сочинения» Эммета Уильямса, «сочинения» Боба Морриса, «сочинения» Уолтера Де Мария, а также «сочинения» Ла Монте Янга и так далее.
ХУО: Что вы сами тогда писали?
ТК: Я написал, к примеру, «This Piece Is Its Name» [1961] в качестве ответа деятелям круга Флуксуса, которые писали партитуры в виде инструкций, вроде «вскипятите телефон». Они придумывали всякие неординарные задачи, но я не хотел никому давать инструкций и не хотел получать их сам. Я не понимал, зачем вообще нужны такие партитуры? Я задумался, нельзя ли совсем избавиться от необходимости указывать кому-то, что делать. Этим меня раздражали уроки музыки и игра в шашки: «Нет, сюда нельзя ходить!» А что, если я хочу «сюда сходить»? Я подумал, что интересно было бы написать такое произведение, которое не нуждается в правилах игры и руке игрока. «This Piece Is Its Name» ныряло в некую черную дыру тавтологического пространства, где произведение становилось самодостаточным, избавленным от формальной зависимости от исполнителей, что было нашим общим с Генри Флинтом объектом критики. Выяснилось, что на некоторых площадках Нью-Йорка происходят удивительные вещи безо всякой связи с институтами. Об одной такой киностудии все говорили и называли ее «андеграундной», хотя это просто была кучка чудаков из даунтауна. Реальность даунтауна как будто нашла таким образом свой способ самовыражения вне принятых традиций. Люди определенного сорта жили в мире своей фантазии, которая становилась реальностью только тогда, когда они надевали костюмы, принимали томные позы и начинали делать необычные вещи, которые обнаруживали их истинную личность. В равной степени это касалось музыкантов. Я узнал, что есть те, кто не придает значения партитурам, умению играть на инструментах и прочему, но при этом все равно делает музыку. Теперь это называется фри-джазом.
Тогда я охарактеризовал бы это как этническую музыку даунтауна. Это независимая музыкальная форма. Я уже ушел от вашего вопроса, но бывает, я ищу в истории моменты, когда что-то было недопонято, и пытаюсь взглянуть на них по-новому. И знаете, в истории развития музыки действительно были белые пятна. Например, Мориц, принц Оранский, примерно в 1685 году, прочитав труды о римских легионах, начал системно вводить строевую подготовку и воинскую повинность; это в огромной степени повлияло на ход 30-летней войны; после окончания 30-летней войны Людовик XIV установил новую форму государственной бюрократии, основанную на новой милитаристской модели, и национальность в Европе стала главным фактором личностной идентификации; традиция военной службы стала неразрывно связана с именем [Жана] Мартинэ; как следствие, западная музыка структурно оказалась заключена в строгую форму оркестра, разработанную во время правления Людовика XIV [Жаном-Батистом] Люлли, который разделял любовь Людовика к танцам и считался его другом. Хоть Люлли был геем – а за такое преступление в те времена сжигали на костре, – Людовик вверил ему всю музыку во французском государстве.
ХУО: Дал ему монополию.
ТК: Именно, монополию. Это дает нам представление о том, на каком уровне тогда действовала власть. Государство использовало музыку как орудие системного контроля. Оно управляло телами аристократии через жесткие танцевальные формы. В последующие 100 лет эта система развивалась занятным путем и породила командную структуру под названием «партитура».
ХУО: Партитуры не бывают нейтральны.
ТК: Никогда! Именно по этой причине, когда мы работали с Ла Монте Янгом, Мариан Зазилой и Джоном Кейлом, нашей главной задачей было избавиться от роли композитора как автора партитуры, упразднить эту функцию.
ХУО: Пьер Булез сказал мне, что партитура никогда не закончена. Что она бесконечна. Еще он рассказал мне о концепции партитуры партитуры.
ТК: В 1961 году я еще писал музыку и партитуры. Например, «Три петли для музыкантов и магнитофонов» («Three Loops for Performers and Tape Recorders»), в которой я использовал систему задержки звука из двух магнитофонов, похожую на системы, которые позже применяли Терри Райли[117] и Стив Райх[118]. Еще я писал партитуры во время своей поездки в Европу в 1960–1961 годах, когда я навестил [Карлхайнца] Штокхаузена в студии Радио Западной Германии (Westdeutscher Rundfunk). Вернувшись в Америку, я сказал Генри, что написал несколько партитур, на что он ответил: «О, а я этим больше не занимаюсь, я слушаю Элвиса Пресли». Я подумал, господи, что происходит?
Критика культуры Генри Флинта для меня имела большое значение. Она казалась мне очень убедительной, в частности идея того, что – говоря примитивным языком – интерес человека к изобразительному искусству, музыке или любым другим культурным явлениям измеряется исключительно тем, насколько они ему «нравятся». Но если дело только в этом «нравится», если дело только в удовольствии, в удовлетворении, возникает вопрос: откуда в искусстве берется соперничество? Генри построил теорию, что в культурной системе не должно быть ему места, потому как при соперничестве кто-то один оказывается проигравшим, что подразумевает в творческой деятельности какую-то гнильцу, приравнивает ее к шахматам, шашкам, баскетболу или пинг-понгу. Соревновательная составляющая должна быть неприемлема. К таким выводам Флинта в некоторой степени подвели свойства его характера. Теперь, через столько лет, я это понимаю – я сам оказался втянут в эту аналитическую концепцию. Мне кажется, есть связь между оригинальными теориями Флинта и способом его самоутверждения как личности, странного для того времени – 1962 года. Мода на подобный имидж пришла гораздо позже. Он позиционировал себя как «отморозка» – незрелого, асоциального человека. Признавая себя социально неприспособленным, он подчеркивал бессмысленность соперничества. А в среде, где мы отвергаем соперничество, мы, таким образом, признаем и отвергаем ту составляющую музыки, изобразительного искусства и так далее, которая порождает соперничество. Вот в общих словах его сложнейшая теория, которой Генри давал много имен и о которой прочел множество лекций. Он принес свой тезис в круги Флуксуса в начале 1960-х годов.
ХУО: Он был против музеев?
ТК: Против любых институтов в сфере искусства. В этом некоторые деятели разошлись с ним по идеологическим причинам. Он обменялся весьма едкими высказываниями с парой личностей.
ХУО: Тем не менее вы оставались с ним.
ТК: Из-за Флинта я оставался в стороне от мира искусства следующие 30 или 40 лет. Так что если спросите, поддерживал ли я его – да, поддерживал. И институты в области искусства по-прежнему вызывают у меня вопросы. Но в нынешних условиях они функционируют иначе, а идеологические споры об унификации, актуальные в 1961, 1962, 1963 годах, сегодня принимают совсем иной оборот, и это важно, на мой взгляд.
ХУО: Любопытно: Люси Липпард говорила о «дематериализации» художественного объекта[119], но ведь это, очевидно, происходит по причине процессов, свойственных искусству.
ТК: Да. Однако Липпард имела в виду то, что называется «концептуальным искусством». Идея «искусства концепта», о которой писал Флинт, отличается от появившегося позже «концептуального искусства». Искусство концепта родилось из отрицания соревновательности и поддерживающих ее институтов, но для Генри крайне затруднительно оказалось описать, что же тогда остается от культуры или что же тебе «просто нравится». Когда во время лекций его просили привести примеры, он отвечал: «Я не могу привести пример. Вам должно что-то понравиться самим, лично вам. Найдите то, что вам нравится. Мы вам сказать не можем». Его идеи нельзя было отнести к новомодным веяниям. Они существовали сами по себе, в его замкнутом мире и изолированно от культурного потока. Но когда он сам пытался понять, что ему «нравится», он обнаруживал, что ему нравятся те вещи, которые наталкивают его на новые мысли. Кстати говоря, на мой взгляд, самое прекрасное в живописи, музыке и культуре вообще – это способность менять наше сознание. Для меня это всегда было величайшим воздаянием за труды.
ХУО: [Франсис] Пикабиа как-то сказал, что у нас головы круглые, чтоб мысли могли менять направление.
ТК: Хорошо сказано.
ХУО: Не могли бы вы подробнее рассказать об искусстве концепта?
ТК: Идея Генри заключалась в том, что концепт может выдержать испытание соревнованием и приобрести форму в виде неких отличительных черт. Он пытался выйти на художественную сцену с искусством концепта и представить на ней эту форму, подкрепив ей свою критику. В первую очередь его критика была направлена на музыку, поскольку в то причудливое время музыка находилась в центре внимания, по крайней мере, в наших кругах. Конечно, дискурс касался и других областей, люди интересовались самыми разными вещами, но данная дискуссия крайне заинтересовала «композиторов» Флуксуса, в частности Эммета Уильямса.
ХУО: В чем ощущалось влияние Штокхаузена?
ТК: Штокхаузен примерно в 1958 году стал молодой звездой Германии. Ему исполнилось всего 28 лет, когда он написал «Пьесу для фортепиано» («Klavierstuck XI», 1956)[120] – произведения с элементами случайности. Его работа совместила в себе европейскую традицию постдодекафонии и стохастическую традицию Кейджа. Удивительным образом тогда сошлись явления с двух берегов Атлантики и соединились в своеобразном интерактивном открытии. Я стремился выйти с ним на связь. Он нашел подход к музыке, основанный не на высотах нот, а на пульсации, что для меня после моих опытов с акустикой представляло особый интерес. Произведение «Контакты» («Kontakte», 1958–1960), одно из его лучших сочинений, в наибольшей степени повлияло на меня и обратило мое внимание на некоторые аспекты работы с пульсацией. Если я правильно помню, в то время с ним работал [Корнелиус] Кардью[121], и в результате они написали «Квадрат» («Carré», 1959–1969).
ХУО: Кардью – выдающаяся личность.
ТК: Да, и тогда у них со Штокхаузеном еще не разошлись взгляды.
ХУО: В то время вы начали рисовать?
ТК: Я делал свои рисунки в качестве «поправок» к партитурам, если можно так сказать. В 1961 году под влиянием Ла Монте Янга многие начали писать текстовые партитуры. Не уверен, что Ла Монте Янг был первым, потому что Джордж Брехт тоже ими пользовался[122]. Впрочем, мне неважно, кто был первым, главное, что в то время все перешли на текстовую форму. В ней оставалось много слабых мест, почему я и начал работать над своими «рисунками». Мне хотелось, к примеру, обратить внимание на то, что форма партитуры связана с ее названием, которое, в свою очередь, никак влияет на исполнение. Я хотел четко обозначить эти сложные моменты.
ХУО: Мы подошли к следующему этапу вашей деятельности в период с 1962 по 1965 год – к сотрудничеству с Джоном Кейлом и Ла Монте Янгом. Был ли свой манифест у «Театра вечной музыки»?
ТК: Нет, но мы соблюдали строгий порядок, в первую очередь благодаря Ла Монте Янгу, человеку невероятно сосредоточенному. Его дисциплинированность достигает таких пределов, что даже сейчас сложно понять, чем он вообще занимается. Он дисциплинирован сверх меры. Нас объединяла преданность своему делу, которая требовала, чтобы мы работали, работали систематически, работали регулярно и повторяли сделанное, постоянно работали на протяжении многих лет. А когда работаешь над чем-то одним в течение долгого времени, оно изменяется и обтачивается, достигает внутренней ясности. Так случилось и с нашим творческим союзом. Я думаю люди, близкие к театру, очень хорошо это поймут. И художники, пускай сейчас уже подход к живописи несколько иной; в наше время живопись еще была скорее ремеслом. Как исполнитель, я стал увереннее в тех вещах, которыми раньше занимался только для себя, но мы делали их в контексте, который постепенно вливался в культурную перспективу, созвучную с моей личной целью – целью создания минималистской музыки.
А потом мы скрестили нашу музыку с рок-н-роллом. Это случилось практически случайно, когда мы с Джоном Кейлом познакомились с Лу Ридом и отправились с ним в тур, чтобы сделать совместную демо-запись с Уолтером Де Мария. Но Джон и Лу отделились и совместно с Энди [Уорхолом] основали «The Velvet Underground». Так возникла еще одна ситуация, когда интеллектуальное сообщество нью-йоркской творческой сцены разделилось в своем отношении к другой сцене, другой культурной среде, которой свойственен был куда более раскованный взгляд на вещи, большая творческая дозволенность и более экспрессивное самовыражение. Удивительно было наблюдать два встречных потока культуры – от высокой к низкой и от низкой к высокой. Несомненно, Энди оказался посреди потоков – пускай как спонсор – и стал в своем роде их культовым связующим звеном.
ХУО: Каким образом вы перешли от «Театра вечной музыки» к кино? Неожиданно вы выступили как режиссер фильма «Мерцание»[123].
ТК: Началось все на самом деле не с этого. Ранее я уже написал саундтрек к ленте «Пламенные существа» (1963). К тому времени я уже проник в мир андеграундного кино, а главное, познакомился с Джеком Смитом. Для меня стало очевидно, что кинематограф как культурная ветвь, культурное течение, культурная форма твердо стоял в стороне от институтов.
ХУО: Как восходящий андеграунд.
ТК: Эта область относилась к андеграунду, но фильм Джека Смита вышел настолько убедительным, что люди захотели со мной работать над музыкальным сопровождением к другим лентам. На самом деле я не стал участвовать в «The Velvet Underground» по той причине, что решил посвятить себя кинематографу и работе со звуком. Джек к тому времени нашел спонсора и торжественно открыл киностудию «Cinemaroc»[124]. Мы с Марио Монтезом [одна из «суперзвезд» Энди Уорхола в период 1964–1966 годов] присоединились было к ней, но вскоре все пошло прахом, и я, как многие другие тогда, отдалился от Джека. Я решил снимать собственные фильмы.
ХУО: Йонас Мекас показал мне свою рецензию на «Мерцание» в «Village Voice»[125].
ТК: У меня возникла мысль, что можно связать гармонические структуры в музыке с воспроизводимыми рисунками мерцающего света, то есть не снимать обычный фильм, с актерами и прочим, а сделать фильм о световых рисунках. Я смог воплотить свою идею только благодаря поддержке Йонаса. Он тогда был, наверное, самой близкой массовой культуре фигурой в кинематографических кругах и потому, как он писал, увидел прямую связь с массовым кино.
ХУО: Йонас основал в своем роде внеинституционную организацию – систему анонимной помощи кинематографу.
ТК: Он снабдил меня пленкой и нашел для меня камеру. Он приехал ко мне, когда я жил с Беверли Грант, «королевой андеграунда» на Второй авеню в доме, которого сейчас уже нет.
ХУО: Присутствовал ли на показах «Мерцания» врач?
ТК: После моих исследований в Гарварде я помнил, что мигающий свет может вызвать приступ у эпилептиков, и уже тогда начал интересоваться новыми технологиями лечения, вроде имплантируемых электродов. Я проконсультировался с врачом в клинике по лечению эпилепсии на Манхэттене, чтобы узнать, правда ли это или книжный вымысел, и оказалось, действительно нужно предупреждать людей о том, что не стоит смотреть наш фильм, если ты болен эпилепсией или подвержен припадкам. Тогда еще не было фильмов со вспышками света или стробоскопов. Диско-сцена еще только должна была появиться. Через Беверли я познакомился с известным психоаналитиком Шандором Радо, который присутствовал на первом показе и точно мог адекватно отреагировать на все, что происходило на экране. Недавно я сидел в проекционной рубке во время показа в Лондоне, и киномеханик мне сказал, что пару раз во время сеанса у людей случался припадок. Его это страшно раздражало, потому что приходилось останавливать показ. В общем-то, припадки ничем не опасны, разве что человек может пораниться при падении или как-то еще случайно получить травму.
ХУО: Жан Руш[126] однажды мне сказал, что хотел бы быть в зале одновременно с показом его кино, чтобы превратить процесс показа в перформанс.
ТК: Этой идеей Джек Смит был одержим в последние годы. Он монтировал ленты прямо во время демонстрации. На мой взгляд, кино как недоступный для изменений художественный объект представляет собой спорное явление. Те фильмы в течение всего периода существования андеграунда нельзя было причислить ни к одному культурно устоявшемуся течению. Например, в 1980-х в Нью-Йорке музыканты и прочие деятели изобрели «панк-кино»: они снимали фильм, показывали его в клубе «Mudd» и на следующей неделе снимали и крутили новый. Их никогда не показывали больше одного раза, разве что случайно. Если бы люди вроде Эдит де Ак не собирали их и не доносили до широкой публики, они бы так и сгинули. В Нью-Йорке тогда было непросто работать.
ХУО: В 1972 году вы сняли «10 лет жизни на безграничной равнине» («10 Years Alive on the Infnite Plain»).
ТК: Меня преследовала мысль о том, что можно сделать большее, имея малое. Теперь это уже клише, но в то время нам самим приходилось раздвигать границы кинематографа. Я хотел создать сложное произведение всего из шести кадров с двумя изображениями – вертикальные полосы и они же, но в негативе. Я использовал четыре проектора и закольцованную пленку и с прогрессирующей скоростью в течение полутора часов чередовал проекции четырех изображений. Я стремился создать среду, сходную с моими предыдущими музыкальными экспериментами с длительными структурами. В плане звука мне показалось совершенно естественным объединить кино с этим языком музыкального исполнения. К тому же минималистская основа того и другого была весьма созвучна.
ХУО: Теперь я должен спросить про «Желтые фильмы» («Yellow Movies», 1972–1976), в которых длительная структура нашла свое воплощение в виде музейного экспоната. Этот проект начался с короткой однодневной выставки в 1972 году и превратился в длительную непрерывную экспозицию.
ТК: Я понял, что длительные формы дают мне ключ к раздвижению границ. На пятой «Documenta» [1972] я видел фильмы художников, которые по выразительности и новаторству превосходили работы режиссеров. В той же степени, в какой художники стремились отойти от структуры, режиссеры стремились сделать акцент именно на ней. Я подумал, что смогу подтолкнуть режиссеров к более плодородной почве. Конечно, шаги в этом направлении уже сделал Энди Уорхол с его длинными лентами. Но недостаточно длинными для меня. Жизнь ведь долгая. Как насчет фильма длиной в 50 лет? Как можно снять такой фильм? В самом деле, я задумывал снять фильм длительностью даже дольше 50 лет. Как я мог это сделать? Катушка пленки понадобилась бы огромная – слишком большая, чтоб с ней можно было работать, и никакой проектор не проработал бы 50 лет. Моя затея требовала капитального пересмотра технического оснащения всей индустрии кинематографа. Тут нужен был иной подход. И вот я лежу на своей кровати в Нью-Йорке, думаю об этом, о том, как все безнадежно, и вдруг ловлю себя на мысли: «Хм, я ведь недавно покрасил потолок, а теперь он пожелтел!» Я покрасил его два года назад. И я подумал: вот какой временной интервал меня интересует, мне нужны изменения, которые происходят с годами. Мне пришло в голову использовать дешевую малярную краску в качестве эмульсии. Я красил ей кадры непосредственно на экране и оставлял их открытыми свету, грязи, среде и остальному. Эти фильмы медленно меняются в течение человеческой жизни. Такая была задумка у проекта.
В «Желтых фильмах» нашла выражение моя склонность к длинным формам, но в центре замысла лежала идея интервенции, культурной интервенции во внеинституциональное пространство – пространство независимого андеграундного кино. Интервенция не увенчалась успехом, поскольку кинематографисты не ощущали потребности менять внутреннее устройство индустрии. Тридцать пять лет спустя мой фильм стал более доступным для визуального восприятия, но снова не привел к интервенции, хотя теперь, когда его замысел проявился яснее, его восприняли по-иному. Сейчас в моей работе можно увидеть связь не со структурным кино, а скорее с архитектурой. «Желтые фильмы» заключают в себе другой, скрытый вариант прочтения: эмульсированная бумага ассоциируется с окрашенным покрытием, которая, в свою очередь, идентифицируется с окрашенной поверхностью архитектурного пространства, кожей на теле здания. Отсюда возникают уже другие вопросы.
ХУО: Например, что такое живопись?
ТК: Да, возникает вопрос о живописи. Ты вешаешь картину на стену и думаешь: как быть с тем, что краска на стене – это кожа здания? Картина становится преградой, объектом направленного взгляда, взгляда, который не может соприкоснуться с кожей дома. А кожа ведь живая, это ты поймешь спустя несколько лет, когда снимешь картину. Ты увидишь на стене призрачный отпечаток ее былого присутствия, как будто ты снял со стены одежду и обнажил ту часть кожи, которая не видела солнечного света, словно снял бюстгальтер. Эта мысль позволила мне по-иному взглянуть на живопись, на ее парадоксальную функцию одеяния для стен дома. Живопись по-своему встраивается в диалектическую систему, в которой из диалектики обнаженного и одетого тела рождаются мода, сексуальность, желание.
Другой вопрос, конечно, заключается в следующем: что, если художник захочет рисовать прямо на стене? Здесь тоже возникает интересная система, парадоксальный баланс, противостояние, напряжение между сущностью кожи, архитектурой и тем, что ее прячет от глаз; напряжение во взгляде, который тверд, но в то же время восприимчив к желанию. Я очень не люблю подобную терминологию, но, по сути, таким причудливым образом мы начинаем воспринимать архитектуру, подавляя желание. Это я называю архитектурной любовью. Она полезна. Она занятна. Мне нравится архитектурная любовь.
ХУО: Над чем вы работаете сейчас?
ТК: Сейчас я работаю над жанровым проектом о военной съемке, под названием «Обязанные победе» («Beholden to Victory», 1980–2007), в котором я провожу аналогию между отношениями офицера и рядового в условиях авторитарной армейской структуры и отношениями произведения искусства и зрителя. Разумеется, мне надо было решить, кто в отношениях главный. Чтобы отдать должное Джону Кейджу, я сделал главным зрителя. ‹…›
ХУО: Джон Кейдж говорил, что, накладывая партитуру на композицию, ты становишься диктатором и одновременно создаешь монстра Франкенштейна. Ваши проекты, по всей видимости, воплощают дихотомию диктатора-монстра Франкенштейна, в частности ваш анализ авторитарной партитуры.
ТК: Мы возвращаемся к моим поискам истоков авторитарной партитуры. Метафора ли это или очевидное явление? Каждый понимает, что дирижер – это тиран в классическом греческом смысле этого слова, то есть демократически избранный правитель, являющийся тем не менее диктатором – отражает ли это понятие системную сущность партитуры? Изначально подобные мысли возникли у меня после уроков музыки, потому что, в отличие от любых других занятий, уроки музыки, как уроки гимнастики или танцев, требуют очень специфического и жесткого контроля над телом и разумом. Мне это не нравилось и вызывало во мне сопротивление. Генри очень хорошо играл на скрипке, чего я не мог сказать про себя, но я понял, что этим тоже можно гордиться. Благодаря Кейджу я осознал: не я должен стараться играть так, чтобы публике понравилось, а публика должна стараться проникнуться тем, как я играю. Когда я исполнял на концерте «Дуэт» Кристиана Вульфа, мне нравился мой дилетантский подход. Звучало это плохо. Никуда не годное звукоизвлечение. Никакого вибрато. Но я играл по инструкции, и после концерта Кристиан мне сказал, что ему понравилось. Так что я сопротивлялся до такой степени, что в своем роде достиг совершенства. Я не хотел, чтоб меня контролировали. И кстати, в армии я тоже служить не хотел. В то время все молодые парни-американцы попадали под призыв. Я сделал все возможное, чтобы доказать свою непригодность.
ХУО: В беседах с Солом Ле Виттом и другими художниками его поколения я услышал точку зрения, что природа инструкций диалектична. Бренден Джозеф писал, что не находит диалектики ни в ваших работах, ни в работах Флинта[127]. В качестве довода он приводил мысль, что вы стремитесь уничтожить идею партитуры вместо того, чтобы осознать ее.
ТК: Уничтожить, именно. Моя задача – избавиться от социальной и художественной роли партитуры как явления, полностью стереть ее как культурное явление. И точка.
Стив Райх – один из основоположников минимализма в музыке. Начиная с его ранних работ – записанных на пленку речевых композиций «It's Gonna Rain» (1965) и «Come Out» (1966) – и заканчивая удостоенным Пулитцеровской премии сочинением «Double Sextet» (2007), он экспериментировал с различными формами классической западной музыки, а также со структурами, гармониями и ритмами других прочих музыкальных традиций и национальной американской музыки, в особенности джаза. Композициям Райха присущи циклические фигуры и медленные гармонические ритмы и каноны. Его творчество в значительной степени повлияло на многих современных музыкантов, в частности Брайана Ино. Райх с отличием окончил Корнелльский университет по специальности «Философия» в 1957 году. Следующие два года он учился композиции у джазового пианиста Холла Овертона. С 1958 по 1961 год он проходил обучение в Джульярдской музыкальной школе вместе с Уильямом Бергсма и Винсентом Персикетти. В 1963 году Райх получил степень магистра в области искусств колледжа Миллс, г. Окленд, штат Калифорния, где он работал с Дариюсом Мийо и Лучано Берио. В 1966 году он основал ансамбль из трех музыкантов, который со временем расширился до 18 и более участников. Также Стив Райх учился игре на ударных, изучал балийский гамелан и формы кантилляции (чтения нараспев) текстов еврейского Священного Писания. В 2007 году он был удостоен престижной Императорской премии Японии.
В 2009 году по случаю открытия Манчестерского международного фестиваля на Манчестерском велодроме группа «Bang on a Can» впервые исполнила произведение Райха «2 x 5» во время двухактового концерта с участием электронной группы «Kraftwerk».
Данное интервью, ранее не опубликованное, было взято в 2009 году по телефону.
ХУО: Для начала я хотел спросить, как возникла идея выступления на Манчестерском международном фестивале?
СР: Вообще-то, для меня все началось еще до Манчестерского фестиваля. Мне стало интересно поработать с электрическим басом. Как ни странно, мне нравится звучание электрического баса, потому что он позволяет прописывать одновременно две басовые партии, быстрые и ритмически сложные, которые совершенно смазываются, если их играть пиццикато на контрабасе. При игре на электрическом басу отчетливо слышна каждая нота, и это звучит здорово. Я подумал: «Надо написать что-то с электрическим басом», и почему бы тогда не использовать другие рок-инструменты? Будучи в раздумьях, кто бы мог это сыграть, я неожиданно получил по электронной почте письмо от моего издательского дома «Boosey & Hawkes», в котором говорилось, что организаторы Манчестерского фестиваля предлагают мне написать композицию для рок-группы с использованием электроники. [Смеется.] Я подумывал об этом с тех пор, как закончил работать над «Двойным секстетом» («Double Sextet»), удостоившимся Пулитцеровской премии. Это произведение для шести или двенадцати музыкантов, которые играют одновременно с воспроизведением записи их же исполнения. Я подумал: а что, если добавить к группе «Bang on a Can» еще одного гитариста? Получится две электрогитары, электрический бас, фортепиано и маленькая ударная установка. Каждый из музыкантов записывал бы первую половину композиции, а вторую играл одновременно с воспроизведением этой записи. Это оказалось именно тем, что было нужно Алексу Путсу, директору фестиваля. Я обычно так и работаю: задумываю произведение, иду с ним к Алексу Рознеру, моему агенту, или в «Boosey & Hawkes» и спрашиваю: кто бы мог заказать у меня такое сочинение? Здесь случилось так же. Я не имел представления, в каком формате пройдет концерт, но с самого начала мне сказали, что в той же программе будут участвовать «Kraftwerk»[128].
ХУО: Об этой неожиданной встрече я тоже хотел вас спросить – вы ведь не были раньше с ними знакомы?
СР: Я никогда их не слышал или не обращал внимания на их музыку, поэтому чувствовал себя странно. Я спросил друга: какая у них самая известная композиция? Он сказал: «Autobahn» – и послал мне запись. Я нашел ее весьма интересной. У них было то, что мы в шутку называем «юмором». Они хорошо понимали, что это забавно и эффектно, что это работает. Если группа существует столько, сколько они, значит, они делают все правильно. Нельзя на протяжении 40 лет жить в рок-н-ролле, если тебе нечего предложить слушателю. Они нашли свою нишу и, бесспорно, оказали влияние на огромное количество поп-музыкантов.
ХУО: Любопытно, что вы с ними причастны к изобразительному искусству… Я заговорил о «Kraftwerk», потому что я куратор в сфере живописи, а у вас и «Kraftwerk» есть множество вдохновленных вами поклонников из мира художников. Когда я говорил с Герхардом Рихтером о музыке, он сказал, что вы и Кейдж дарили ему вдохновение. Кажется, вы недавно с ним сотрудничали?[129] Разумеется, я читал статью Ричарда Серра о вас[130]. Во многих интервью вы упоминали, что в начале вашей деятельности художественные галереи сыграли большую роль. Я хотел попросить вас рассказать о вашей связи с миром живописи, о совместных проектах с художниками и о том, как это сказалось на вашем творчестве.
СР: Это правда: когда я окончил магистратуру в заливе Сан-Франциско, где со мной работал Лучано Берио[131], и вернулся в 1965 году в Нью-Йорк, поначалу у меня было много друзей-художников. Сол Ле Витт – мой очень, очень давний друг. Ричард Серра, как вы уже знаете, тоже давнишний друг. Он жил со мной по соседству. Я жил на Дуэйн-стрит, а он на Гринвич-стрит. Между нашими домами было 100 метров. Майкл Сноу, канадский режиссер, жил на Чеймберс-стрит. В Калифорнии я познакомился через своего друга-художника Уильяма Т. Уайли с Брюсом Науманом. Науман учился вместе с Уайли, и, как он сказал, на него оказала влияние моя композиция для магнитной пленки «Come Out» (1966). Благодаря этим людям я смог организовать свои первые концерты. Пола Купер владела галереей «Park Place», где я дал концерты в 1966 и 1967 годах. В «Park Place» выставлялись Сол Ле Витт, Роберт Смитсон, Роберт Моррис и т. д. Пола предложила мне устроить четыре музыкальных вечера – так я оказался на музыкальной карте Нью-Йорка. На мои выступления приходили Роберт Раушенберг, труппа танцевального театра Джадсона, Ивонна Райнер, Стив Пэкстон и другие люди их круга. Позже, когда Науман и Серра выставлялись в Музее искусств Уитни, по их рекомендации мне предложили сыграть и там. Брюс тогда был перформансистом, а Ричард снимал фильмы, поэтому приглашать на выступления людей вроде меня было обычным делом. В 1970 году я сыграл в Музее Гуггенхайма. Мировая премьера «Drumming» в 1971 году состоялась в Музее современного искусства, в старом кинозале, в котором не давали концертов с 1940-х, когда Кейдж выступил там с перкуссионной программой. Повторюсь, всем этим я обязан своим друзьям-художникам, которые были знакомы с кураторами музеев и рассказывали им обо мне. В то время существовала связь между моей музыкой и изобразительным искусством. Сейчас уже нет. В наши дни концерты музыки в музеях – редкость. То, что сделал Герхард Рихтер, для меня стало совершенной неожиданностью. Конечно, я знаком с его работами – и восхищаюсь ими, – но лично с ним я не встречался и не думал, что он про меня знает. Еще мне однажды позвонили и предложили сыграть вместе с ансамблем «Ensemble Modern»[132], а я с энтузиазмом отношусь к подобным проектам. У нас близкие отношения с «Ensemble Modern», мы часто выступаем вместе, и они исполняют многие мои произведения. Герхард Рихтер предложил мне сыграть «Музыку для 18 музыкантов» («Music for 18 Musicians») в Кельнской филармонии и «Drumming: Часть первая» на его выставке в Музее Людвига. Я ответил: «Прекрасно!», хотя был очень удивлен. Спустя пару месяцев снова проходила его выставка, в мюнхенском Доме искусств. И снова он позвонил и позвал меня. Там выступали и местные музыканты, необычайно талантливые.
ХУО: Во многих наших с ним беседах Янис Ксенакис[133] говорил, что в мире не хватает музеев, посвященных исключительно звуку. Несомненно, Ла Монте Янг[134] был бы с ним согласен. Скажите, приходили ли к вам идеи звуковых инсталляций для музеев или «домов звука», музеев звука?
СР: Нет. Я хочу, чтоб мою музыку играли живые музыканты в концертных залах – как сказал поп-музыкант Чак Берри, «любым старым добрым способом»[135]. Взять, к примеру, Иоганна Себастьяна Баха. Вы можете зайти в маленькую кофейню в Германии или Нью-Йорке и услышать фоном его музыку. Разве это значит, что Бах обесценился? Отнюдь. Это значит, в его музыке такая сила, что неважно, каков контекст, каков размер помещения, какова акустика – она все равно работает. К этому я стремлюсь. Как бы вы ни слушали мою музыку – в наушниках, через iPod, дома, в Карнеги-холле, на железнодорожной станции – я хочу, чтобы она работала.
ХУО: Герхард Рихтер считает, что художники не должны решать, в каком контексте выставлять работу: как только ты представляешь произведение миру, оно начинает жить своей жизнью, как ребенок, покинувший отчий дом.
СР: Именно. Иначе ты просто плохой родитель. Если ребенок не сможет заработать себе на жизнь, он сам вернется к тебе за помощью, когда ему будет 50. Если ты к тому времени еще будешь жив. [Смеется.]
ХУО: Пару лет назад я брал интервью у [ученого] Альберта Хофмана, и он рассказал мне об откровении, которое пришло к нему после того, как он попробовал ЛСД. Какими были откровения в вашей жизни?
СР: Я думаю, самое большое откровение случилось со мной, когда мне было 14. Я не слышал тогда никакой музыки, написанной до Гайдна и после Вагнера. То есть я никогда не слышал джаза. А тут вдруг подряд послушал на одной пластинке друг за другом «Весну священную», пятый Бранденбургский концерт с феноменальной партией клавесина и бибоп – Чарльза Паркера, Майлза Дэвиса и барабанщика Кенни Кларка. Один мой друг, который играл на фортепиано лучше меня, захотел основать свой джазовый ансамбль. Я сказал, что буду барабанщиком, и стал учиться играть на перкуссии. Так что с фортепиано я переключился на ударные. И знаете, я как будто всю жизнь жил в доме и не замечал в нем одной комнаты. А потом в 14 лет мне кто-то сказал: «Гляди-ка, там еще одна комната». Я зашел в нее, и она настолько полюбилась мне, что до сих пор живу в ней! Я люблю в западной музыке все от Перотина[136] до Себастьяна Баха, средневековую музыку и то, что началось с Дебюсси, Сати и Равеля. И джаз. Еще одно откровение на меня снизошло, когда я услышал Джона Колтрейна[137]. Это было позже, когда я уже учился в Джульярдской школе в конце 1950-х, и еще в начале 1960-х, когда я учился с Лучано Берио в Калифорнии. Я несколько раз слышал, как он играл с Эриком Долфи, и это было великолепно, потому что они оба замечательные и близкие по духу музыканты. У Колтрейна я научился тому, что интересную музыку можно писать в рамках одной гармонии – особенно это слышно на альбоме «Africa/Brass» [1961, «Impulse Records»] – потому что в одной гармонии можно сыграть все что угодно. В «Africa/Brass» он в основном играет в ми, низкой ми на контрабасе, и сторона пластинки длится около получаса. Вы спросите, что может быть интересного, если полчаса играть в одной только ми? Что ж, если постоянно разнообразить мелодическую составляющую, от красивых мотивов до неразборчивого шума, менять тембры, от обычного звучания инструментов до глиссандо на валторне, которые для пластинки записал Эрик Долфи[138], и звучат они, как стадо слонов в джунглях, добавить сложные ритмы, как это сделал выдающийся ударник Элвин Джонс[139], то благодаря сложному ритму, разнообразной мелодии и переменам тембра можно поддерживать музыкальный интерес, не меняя гармонии. Это базовая составляющая того, что теперь называется минимализмом в музыке. Никого из людей, о которых вы говорите – Ла Монте Янг, Терри Райли, я, Гласс, – не было бы, если б не Колтрейн. На мой взгляд, он оказал огромное влияние на наше поколение.
К использованию фазового сдвига я пришел в 1964 году[140]: рядом с Юнион-сквер в Сан-Франциско я записал проповедь чернокожего пятидесятника о потопе [«Грядет дождь» / «It's Gonna Rain», 1965]. Я сделал петли из пленки с этой записью. В 1960-х с пленочными петлями многие экспериментировали, это не мое изобретение. Ими пользовались во Франции, в Германии и, разумеется, в Штатах. После наших с Лучано Берио исследований меня больше интересовал голос, чем электронный звук. Если сравнивать «Песнь отроков» («Gesang der Jünglinge») и «Электронные этюды»[141] Штокхаузена, первое произведение куда более интересно, вне всяких сомнений. Берио сам работал над композицией «Оммаж Джойсу» («Omaggio a Joyce», 1958), для которой его жена Кэти Бербериан[142] читала «Сирены» [из «Улисса»] Джеймса Джойса, а он потом нарезал пленку и внахлест склеивал фонемы. Мне это казалось гораздо интереснее, чем слушать синусоидальные волны. Тот чернокожий проповедник очень мелодично повторял: «it's gonna rain, it's gonna rain». У пятидесятников вообще очень мелодичная манера проповеди, на грани речитатива и пения. У меня с собой было два магнитофона «Wollensak», очень дешевых моноустройства, которые, вероятно, американцы реквизировали в Германии после войны и продавали за бесценок. Я решил: сделаю две максимально схожие петли при помощи склеечного пресса, бритвенного лезвия и пленки, а потом запущу их и сделаю так, чтоб получилось: «it's gonna, it's gonna, it's gonna, it's gonna rain, rain, rain, rain», то есть чтоб они отличались друг от друга на 180 градусов. Я не глядя заправляю обе петли в магнитофоны, втыкаю один провод от наушников в разъем на первом магнитофоне, другой – в разъем на втором, кладу руки на оба магнитофона, жму на кнопки проигрывания, и по случайности (если вы верите в случайности) или по божественному провидению (верьте, во что хотите), пленки звучат абсолютно в унисон, точно совпадают друг с другом. Шанс был очень мал. [Смеется.] Очень мал! Тем не менее это случилось. Таким образом, я сначала слышал звук по центру головы, потом он начал перемещаться влево, потом на левое плечо – ну, так мне казалось, – потом на левую ногу, затем на пол, затем появилась реверберация, затем эхо, и наконец я услышал: «it's gonna, it's gonna, it's gonna, it's gonna, rain, rain, rain, rain», после чего петли стали снова медленно приближаться к унисону. Я раскрыл рот от изумления и подумал: «Боже мой, какое великолепное соотношение, но самое интересное то, как унисон постепенно переходит в фазовый сдвиг, а это ведь своеобразное продолжение древней традиции канонов в западной музыке». Каноны встречаются в музыке XIII века. Первый известный канон – «Лето пришло» («Sumer Is Icumen In»), и все, конечно, знают «Братца Якоба» («Frère Jacques») и «Row, Row, Row Your Boat». В них одинаковый принцип: параллельно звучат два идентичных мелодических рисунка, ритмически смещенных относительно друг друга. В их основе лежит одна мелодия или отрывок, но из-за ритмического сдвига возникает канон. Я совершил для себя важнейшее открытие. Позже я вернулся в Нью-Йорк записал еще одну пленку, «Come Out» (1966), о которой вы, наверное, слышали, и в ней я расширил и доработал то, что начал в «It's Gonna Rain». А потом я оказался в тупике. Я думал: «Техника-то прекрасная, изумительная, но люди не смогут это играть». В итоге я решил запереться в лаборатории с магнитофонами. Через полгода самоистязаний я решил: «Ладно, я буду исполнять роль второго магнитофона», сел за фортепиано и записал базовый модуль, базовый рисунок для «Piano Phase» (1967), а потом зациклил его. Я сел за инструмент и закрыл глаза – я знал, что я должен играть, – и начал в унисон с записью, а потом стал постепенно ускоряться до тех пор, пока не опередил запись на одну долю. Я подумал: «Ух ты, у меня получается, и ощущения при этом удивительные». Я закрыл глаза, я знаю ноты – их легко запомнить – я не импровизирую, я точно понимаю, что делаю, мне не надо читать с листа, нужно только слушать и рассчитывать свою игру относительно другого голоса. Недолго думая, я пригласил другого пианиста, моего друга из Джульярдской школы, Артура Мерфи[143], первого члена моего первого ансамбля, и мы обнаружили, что «вуаля, мы можем сделать это сами, безо всякой пленки». Этот прорыв случился в 1967 году, и из него родились «Piano Phase», «Violin Phase» (1967) и, наконец, «Drumming» (1970–1971). После «Drumming» я решил: «Все, хватит этой техники, она слишком специфическая, ей не будут учить в музыкальных школах, а близкие каноны можно делать и другими способами».
ХУО: Настало время новых откровений?
СР: Последним произведением стало «Drumming». Больше я не работал в технике фазового сдвига. С тех пор прошло уже 38 лет, и больше я подобного писать не собираюсь. Но идея близкого канона, идея двух наложенных голосов одного тембра, например двух флейт или двух кларнетов, или двух фортепиано, по-прежнему присутствует в моей музыке.
ХУО: Может быть, расскажете еще хотя бы об одном откровении после экспериментов с фазовыми сдвигами?
СР: Произведения на основе фазового сдвига формировали ритм и короткие мелодические фрагменты без гармонических изменений, и я подумал: «А что, если ввести гармонические переходы? Что, если собрать ансамбль, в котором будут не только ударные, не только маримбы, не только колокольчики или электроорганы?» Что, если сделать смешанный ансамбль? Эти мысли в итоге привели меня к написанию «Музыки для 18 музыкантов» («Music for 18 Musicians») в 1976 году. Очевидно, с этого сочинения началось мое движение обратно к западным традициям, к ритмическим идеям – идеям, которые я развивал на протяжении 1960-х и 1970-х годов. «Музыка для 18 музыкантов», как вы, вероятно, знаете, имела громадный успех и достигла аудитории, к которой я стремился, – слушателей классической и популярной музыки, слушателей авангардного джаза, а поскольку запись вышла на лейбле «ECM» – хотя записывал я ее для «Deutsche Grammophon», это долгая история, не буду в нее вдаваться, – продано было 100 тысяч копий. С выпуском этой записи в 1978 году моя карьера совершила скачок международного масштаба. Я чувствовал, что должен использовать возможности западной музыки, и в итоге написал «Tehillim» (1981), мое первое вокальное произведение в традиционном смысле. Я использовал голос и раньше: в «Drumming» женские голоса имитируют звук маримбы, в «Музыке для 18 музыкантов» – звук кларнетов и струнных. При написании «Tehillim» я подумал, почему бы, наконец, не дать голосу петь слова? На мой взгляд, это одно из моих лучших произведений.
ХУО: Я помню, как мы с вами встретились в Вене в 1993 году, и вы говорили о важности памяти. Тогда вы только выпустили «Пещеру» («The Cave», 1990–1993)[144], и тогда же миновало пять лет после выхода «Different Trains» («Разные поезда»)[145], и каким-то образом мы пришли к теме истории и памяти. В ваших шедеврах присутствует «протест против забвения», как говорил историк Эрик Хобсбаум, но это уже вопрос для отдельного интервью. Я хочу задать вам еще два вопроса. Первый: есть ли у вас нереализованные проекты, слишком масштабные для воплощения, не прошедшие цензуру или отметенные вами самим?
СР: Нет, тут мне очень повезло. Все, что я хотел сделать, я смог. Во время работы над «Пещерой» я думал: «это слишком амбициозный проект, я никогда не доведу его до конца», но у меня получилось. На это ушло четыре или пять лет, но у нас получилось. Авторство «Пещеры» и «Трех историй» («Three Tales», 2003) на самом деле принадлежит наполовину Берил Коро[146], наполовину Стиву Райху: без видео их просто не существует, а к его созданию я совершенно не причастен. Так что нет ничего такого, что я хотел бы сделать, но оказался не в силах.
ХУО: Райнер Мария Рильке написал замечательную книжку советов молодому поэту [«Письма к молодому поэту», 1929], которую я пару недель назад перечитал и хочу спросить у вас, какой сейчас, в 2009 году, вы бы дали совет начинающему композитору?
СР: Точно такой же, что я мог бы дать в любое другое время: старайся принимать участие в исполнении своей музыки. Работа композитора не кончается с двойной тактовой чертой в конце произведения. Твой долг как композитора сделать так, чтобы твою музыку играли. Если можешь дирижировать, дирижируй. Если можешь играть на музыкальном инструменте, играй. Если можешь запрограммировать драм-машину, запрограммируй. Как можно больше участвуй в исполнении, чтобы потом не пришлось оправдываться перед людьми за запись, которую ты им предлагаешь. «У нас было мало времени на репетиции, музыканты неважно играли» и тому подобное. Очень часто молодые композиторы приносят свои записи с извинениями. Мне не нужны извинения. Я хочу слушать запись и говорить: «Это моя запись, нравится она вам или нет: она такая, какой я ее задумал». На мой взгляд, крайне важно, чтобы молодые композиторы принимали практическое участие в исполнении их музыки, особенно когда они молоды, потому что именно тогда у людей формируется мнение о них как о композиторах.
ХУО: Когда вы говорили о «Двойном секстете», я вспомнил, как в одном интервью вы назвали его произведением «на грани настоящего рок-н-ролла»[147]. Возможно ли, что это ваше будущее направление?
СР: Ну, одно рок-н-ролльное произведение я уже написал, и вы можете его услышать здесь, в Манчестере [«2 x 5»]. Нет, давайте называть вещи своими именами: это не рок-н-ролл, это Стив Райх. Просто Стив Райх стал работать с рок-н-ролльными инструментами, и получилось соответствующее звучание. Меня всегда интересовал джаз, но после Колтрейна джаз медленно начал превращаться в маргинальную музыку. Сейчас он играет уже не такую важную роль в жизни мира музыки, какую играл до смерти Джона Колтрейна. Теперь в фокусе молодого поколения рок-н-ролл и множество, множество его вариаций. Мне нравятся группы вроде «Radiohead». У них много энергии, и я вижу новое поколение музыкантов – они образованы в классической традиции, но при этом играют рок-н-ролл и любят его. К примеру, два музыканта из группы «Bang On a Can», которая будет выступать в Манчестере. Одного из них зовут Брюс Десснер. Брюс Десснер вместе со своим братом Аароном основали группу «The National», очень популярную сейчас. Их песню использовал в своей кампании президент Обама. Аарон играет на слух, а его брат Брюс, с которым мы вместе работаем, учился в Йельской музыкальной школе. Он может прочитать с листа что угодно, и он очень красиво читает свою весьма сложную партию в моем произведении, но играет ее как рок-музыкант – и это прекрасно. Другого гитариста зовут Марк Стюарт. Он учился играть на виолончели в Истменовской музыкальной школе, а для себя занимался гитарой. Переехав в Нью-Йорк, он обнаружил, что умение читать с листа может его прокормить, потому что большинство гитаристов этого не умеют. Так он стал музыкальным директором Пола Саймона[148]. Всему, что Пол Саймон сделал, его научил Марк Стюарт. Два этих парня играют на электрогитарах в моей «рок-композиции», они оба настоящие рок-музыканты и оба получили полноценное музыкальное образование – вот он, новый вид музыкантов. И их становится все больше. И это не искусственная тенденция, нацеленная на продажу записей. Просто молодые люди любят эту музыку и выражают себя таким образом.
Родилась в 1933 году в Токио, Япония. Живет и работает в Нью-Йорке.
Йоко Оно известна как автор произведений изобразительного искусства и перформансов с участием зрителей, а также как музыкант, режиссер, участник движения за мир и вдова Джона Леннона. Она была близка к движению Флуксус и испытала большое влияние культуры битников. В Нью-Йорке Йоко Оно начала работать с первопроходцами минимализма в музыке, такими как Джон Кейдж, Ла Монте Янг и легендой джаза Орнеттом Коулменом, над авангардными и экспериментальными танцевальными произведениями. Ее первый альбом, «Yoko Ono/Plastic Ono Band», увидел свет в 1970 году. Подобно ее работам в изобразительном искусстве и перформансам, ее музыка поэтична и проникнута лиризмом и надеждой на мирное будущее человечества.
Работы Йоко Оно были представлены на выставке «WaterMusic» Музея искусств Джорджии (2013), а также на ее персональной ретроспективной выставке Художественного музея Ширн во Франкфурте (SCHIRN Kunsthalle Frankfurt) (2013). Она была удостоена двух премий «Грэмми» за продюсирование их совместного с Джоном Ленноном альбома «Double Fantasy» в 1981 году и за фильм «Gimme Some Truth: The Making of John Lennon's Imagine Album» в 2001 году. Она также стала продюсером более 10 собственных альбомов, в которых она выступала в качестве автора песен и вокалистки. В 2009 году Йоко Оно была награждена «Золотым львом» за жизненные достижения на Венецианской биеннале.
Данное интервью было взято в Нью-Йорке в ноябре 2001 года. Впервые опубликовано в книге Hans Ulrich Obrist. Interviews, Volume I. Ed. «Charta Editions», Milan, 2003, Р. 626–639, и переиздано в книге Hans Ulrich Obrist, Yoko Ono. The Conversation Series, vol.17. Ed. «Walther König», Cologne, 2009.
ЙО: Я начинала с музыки. Я училась ей с дошкольного возраста. Моя мама отправила меня в необыкновенную школу Чжийю Гакуэн в Японии, еще до того, как я пошла в младшую школу. В Чжийю Гакуэн, что переводится как «Учебный сад свободы», давали раннее музыкальное образование детям дошкольного возраста. У нас развивали абсолютный слух, учили гармониям, игре на фортепиано и композиции простых песен. В эту школу ходили многие знаменитые японские композиторы. Одной из самых важных вещей, которой меня там научили, – хоть я поняла это только со временем – было умение слушать окружающую обстановку. Нам задавали на дом слушать повседневные звуки и переводить их в ноты. Так у меня появилась привычка постоянно слушать окружающие звуки как музыку.
ХУО: Слушать звуки города и звуки вашей жизни…
ЙО: Да, звуки города и звуки моей жизни в этот конкретный день. А потом я превращала это все в нотные знаки. Потрясающе, правда?
ХУО: О да. Когда это было?
ЙО: В 1930-х годах. Прекрасная затея – давать такое домашнее задание… переводить звуки в нотные знаки. Я с детства все время делала так в уме. Часы били: дин-дон, дин-дон, а я повторяла бой про себя. Я считала удары уже после того, как часы пробьют. Этот навык пришел ко мне естественным образом. Сейчас я понимаю, какое полезное это было упражнение. [Джон] Кейдж ведь разработал целую концепцию нотной записи шумов… а меня ей научили еще в дошкольном музыкальном садике. Пока я жила в доме моих родителей в Уэстчестере (Нью-Йорк), меня по утрам будил птичий хор за окном. Я поймала себя на том, что автоматически пыталась положить птичью симфонию на ноты. В ней, однако, было слишком много голосов, и у меня ничего не получалось. Сначала я решила, что мне просто не хватает навыка. Но вдруг я осознала: дело не в моем умении, дело в нашей традиции нотной записи. Хор птичьих голосов беднеет, когда пытаешься перевести его в ноты. Нотация упрощает естественные звуки, лишает их затейливой природной красоты. Конечно, по правилам музыкальной записи тоже можно создать большой сложный мир, отдельный от звуков природы. Но если попробовать привнести естественные звуки в музыку, сразу понимаешь, что западные традиции нотации для этого не приспособлены. Поэтому я решила добавлять к нотам инструкции. То же, должно быть, пришло в голову композиторам – создателям конкретной музыки. Подобный образ мысли привел меня к перформансам и инструкциям для картин и скульптур. Когда ты пишешь партитуру, музыкант старается сыграть как можно ближе к ней, но в результате у него все равно получается всего лишь интерпретация. Что, например, конкретно имеется в виду под пианиссимо? Зависит от толкования музыканта. Поэтому необходимо делать уточнения. Интересно, что в музыке партитура и реальное исполнение отделены друг от друга. Автор, будь то композитор или художник, всегда хочет, чтобы его творение осталось в истории таким, каким он его задумал. Но работа не может оставаться в своем изначальном виде, поэтому в случае музыки исполнение должно хотя бы быть максимально приближено к авторскому замыслу.
ХУО: Вы всегда были плодовитым автором. Вашему творческому полету фантазии способствовали изобретенные вами инструкции?
ЙО: Джон Леннон однажды сказал журналисту: «У кого-то бывает просто понос, а у Йоко – понос мысли». В самом деле, я словно настраиваюсь на какую-то космическую волну и черпаю из нее идеи. Меня все время приводило в отчаяние то, что большую часть из них я не могу претворить в жизнь. Инструкции позволили мне перекладывать на других ответственность за конечный вид произведений. И освобождать место в моей голове, забитой идеями. Раньше, иногда по финансовым причинам, иногда из-за технических сложностей я не могла реализовать все переполнявшие меня замыслы. Но я могла писать инструкции. Это освобождало меня. Я становилась все смелее и смелее, а инструкции – все концептуальнее. В мире концептуального искусства тебе не надо думать о том, как физически воплотить свою идею.
ХУО: В итоге вам не приходилось ставить для своих проектов совершенно никаких рамок.
ЙО: Именно. Когда я стала писать инструкции к произведениям, я обнаружила, что могу не придерживаться двух или трех измерений. У себя в голове ты можешь при желании создать все шесть. Можешь скрестить яблоко и письменный стол. В реальном мире это физически невозможно, но возможно в концептуальном. Ты можешь скрестить их и сделать это так, как тебе заблагорассудится. Так у меня родилась мысль о том, что живописи и скульптуре не обязательно быть статичными. Они могут двигаться и расти, как живые. В те дни художники и музыканты с неохотой позволяли другим вмешиваться в свою работу. Им не нравилось давать кому-то трогать их произведения. Даже публика не понимала, как художник может разрешить кому-то участвовать в его творческом процессе. «Хочешь сказать, ты дал кому-то сделать это вместо тебя?» Плохие времена. Над произведением обязан был трудиться один только автор и сохранять его в исконном виде. Но я – дитя войны. Жизнь, скоротечная и переменчивая, толкала меня вперед. Мне казалось, статичное существование противно природе. Время или политические факторы разрушают картины и скульптуры – это факт. Я знала: как бы ты того ни хотел, произведения искусства не могут оставаться неизменными. Поэтому как художник я решила не пытаться удержать то, что удержать невозможно, а идти к позитивным переменам: я впускала в процесс зрителя и давала своим работам расти через него.
ХУО: Получается, никаких временных рамок у вашего творчества тоже нет?
ЙО: Нет.
ХУО: Вашу идею можно применить и к музыке, ведь ее интерпретация при исполнении – это тоже участие в творческом процессе.
ЙО: Да, но даже музыканты тогда считали, что необходимо играть как можно ближе к партитуре. А я хотела отдавать другим свои работы незавершенными, чтобы они дополняли их, а не просто повторяли. К такому тогда не привыкли. В те дни большинство авторов не могли допустить и мысли, что кто-то будет изменять или дополнять их произведение. Для меня это тоже был непростой шаг. Я перфекционист. Мне тоже не хотелось никого пускать в свое творчество. В некотором смысле я переступала через саму себя. Я сделала это для собственного роста, чтобы избавиться от артистического эгоцентризма. И я ощущала, будто совершаю шаг от лица всего элитарного творческого сообщества: я отказывалась от своего эго. Моих инструкций к произведениям тоже нужно было придерживаться, но это все-таки не то же самое, что законченная партитура. Инструкции дают исполнителям больше свободы действий и куда больше возможностей для самовыражения. Много лет спустя, в 1968 году, вышла моя первая пластинка под названием «Unfnished Music No.1» («Незаконченная музыка No.1»). Тут я не писала никаких инструкций. Просто назвала ее «незаконченной». Я думала, продвинутая молодежь к тому времени должна была начать понимать такие вещи. В конце концов, прошло уже 10 лет с тех пор, как я впервые представила миру свою идею. Но оказалось, что никто не в состоянии ее оценить – такое у меня сложилось впечатление, по крайней мере.
ХУО: Когда вы познакомились с Джоном Кейджем?
ЙО: С Кейджем меня в конце 1950-х познакомил Стефан Вольпе[149]. Благодаря Кейджу я обрела уверенность в том, что я двигаюсь в верном направлении. В мире, который называли «авангардным», мои идеи никто не счел сумасбродными. Я делала как раз то, что они поощряли. У меня словно открылись глаза. Композиторов-предшественников Кейджа – Генри Коуэлла, Вольпе и Эдгара Вареза – тоже нужно помнить за их талант и смелость. Уже тогда казалось, что они страдают от забвения, на которое их обрекло появление Кейджа. Я все еще с теплотой вспоминаю о них. Как вы знаете, Фрэнк Заппа учился у Вареза и всегда высоко о нем отзывался. Я всех повидала – и композиторов, и художников. Было необыкновенно жить в то время в Нью-Йорке, где зарождалась целая школа художников и музыкантов, каждый из которых стал в своем роде революционером. ‹…›
ХУО: Есть интересная связь между вашим творчеством и творчеством [Оливье] Мессиана, который изучал орнитологию и транскрибировал птичье пение. Он говорил, что «птицы – величайшие музыканты на планете». Не могли бы вы еще рассказать о транскрипции звуков?
ЙО: Когда я неожиданно поняла, что невозможно точно записать пение птиц, у меня возникла идея инструкций. Осознание ограниченных возможностей партитуры привело меня к инструкциям как альтернативе обычной классической западной нотации.
ХУО: Описание звучит похоже на открытые нотации. Вам в голову пришла концепция открытой транскрипции еще до знакомства с Кейджем.
ЙО: Все благодаря домашним заданиям в Чжийю Гакуэн! Удивительно, что так сложилось, не правда ли?
ХУО: А что вы скажете о Дюшане?
ЙО: Знаете, что я думала? Это может прозвучать высокомерно, но, мне кажется, я пошла дальше его идеи «найденных объектов». Он остановился на них. А я говорила: «Вот, я даю вам нечто, к чему вы можете приложить руку. Можете менять структуру, можете менять внутренний порядок». Я расскажу занятную историю. У меня была картина под названием «Картина, на которую нужно наступить» («Painting to Be Stepped On», 1960)…
ХУО: Помню. «Оставьте кусок холста или незаконченную картину на полу или на земле на улице».
ЙО:…да, и мы дали несколько концертов с Ла Монте Янгом на Чеймберс-стрит, как вы знаете. Кейдж на них привел замечательных людей: Пегги Гуггенхайм, Дюшана и Макса Эрнста…
ХУО: Когда это было?
ЙО: Первый концерт состоялся в декабре 1960 года. Шел снег, и удивительно, что Джон Кейдж, Дэвид Тюдор и все «красивые люди» из городка Стони-Пойнт приехали в такую погоду. Даже в погожий день из Стони-Пойнта часа два-три езды до Чеймберс-стрит. Наша серия концертов обрела известность и популярность, очень быстро и только благодаря рассказам из уст в уста. И вот на один из концертов приехали Дюшан и Макс Эрнст.
Я подумала, может, Марсель заметит мою «Картину, на которую нужно наступить». Но он не заметил. Он озирался по сторонам, и на секунду его взгляд задержался на ней, но я не думаю, что он понял. А я была слишком застенчива и слишком горда, чтобы подойти и объяснить ему, в чем смысл.
ХУО: Расскажите о том, как зрители непосредственно участвовали в создании ваших произведений, добавляли или убирали из них что-то. Я был на вашей выставке в Роял-Фестивал-холл в Лондоне несколько лет назад, на которой вы главным образом просили зрителя добавлять что-то к вашим работам [«Йоко Оно и Флуксус» / «Yoko Ono and Fluxus», 1997]. В чем же суть этой идеи дополнения или сокращения – она, на мой взгляд, очень интересна в связи с реди-мейдами.
ЙО: Все было именно так: я указывала в инструкциях, что к картине надо что-то добавить или убрать из нее что-то, или вообразить в голове. В уме можно представить себе вещи, которые невозможно воплотить физически, и это тоже очень интересно. Можно мысленно смешать две картины. Еще интересно, что каждый делает это по-своему. Можно наложить совершенно разные вещи, существующие в разных измерениях, например картину и скульптуру. Смешать дом с ветром…
ХУО: Дом с ветром? Как красиво. ‹…› Идея инструкции красной нитью идет и через вашу борьбу за мир, что в нынешней ситуации вновь крайне актуально. ‹…› Когда мы встретились с вами в первый раз, много лет назад, вы сказали одну вещь, которую я запомнил на всю жизнь и считаю очень важной. Вы сказали, что весь мир заполнен индустрией войны, и наша задача – по мере наших сил создавать индустрию мира.
ЙО: Перфекционист во мне еще жив. Проблема перфекциониста в том, что ты ограничиваешь себя неким идеальным образом и не принимаешь ничего, что в него не вписывается. Я часто хожу на выставки и думаю про себя: «Какой кошмарный художник, что за куча мусора!» Но постепенно мое отношение меняется. Мир разделен на две индустрии: индустрию войны и индустрию мира. Люди из военной индустрии крайне сплочены своей общей идеей. Они хотят вести войны, убивать и делать деньги. Там никто не спорит между собой, они все заодно. Значит, они представляют собой громадную силу. А в мирной индустрии люди вроде меня – идеалисты и перфекционисты. Поэтому они не могут найти друг с другом общий язык. Они постоянно ссорятся в погоне за своей «идеальной идеей». Они спрашивают у себя и у других: «Как можно достичь мира? Разумеется, так, как я думаю. А ты не прав вот в чем…» Но если бы вместо этого мы попытались принять и начать ценить друг друга, простить наши различия… ведь мы все в одной и той же индустрии мира. Мы должны поддерживать друг друга. Сплотившись, мы могли бы сделать мирную индустрию такой же сильной, как военная, или даже еще сильнее. Только тогда мы смогли бы остановить войны и достичь мира во всем мире. Военная индустрия приносит доход и потому процветает. С экономической и финансовой точки зрения для многих гораздо прибыльнее вести войны. Вот и все. Так что мы должны прекратить распри и выступить заодно, единым фронтом.
ХУО: Мы должны «сделать это»!
ЙО: Вот именно, мы должны объединиться и «сделать это». Вместо «Ты же просто флорист» мы должны говорить: «Как прекрасно, что ты флорист. Спасибо, что ты так красиво обращаешься с цветами», понимаете? Нашу энергию нужно направить на заботу и взаимное уважение, а не попытки изменить друг друга.
ХУО: Это интересная мысль с точки зрения следующего вопроса, который я хотел вам задать. Слово «утопия» в последние годы утратило свое исконное значение и стало ассоциироваться с тоталитаризмом, с режимом, при котором стираются различия между людьми, но ведь бывают и другие утопии и другие их аспекты. Давайте вернемся к изначальной идее утопии не как системы обезличивания, унификации и тоталитаризма, но двигателя перемен.
ЙО: Верно. Не знаю, слышали ли вы, но однажды, когда нас с Джоном пытались выставить из страны [из Соединенных Штатов] из-за иммиграционных проблем, мы основали страну под названием Нутопия, каждый житель которой – ее посол, и мы в том числе. Мы созвали пресс-конференцию, достали перед журналистами из кармана белые платки и сказали: «Мы сдаемся миру». Не сражаемся за мир, а сдаемся миру – это важно.
ХУО: У вас был свой манифест или декларация?
ЙО: Мы написали декларацию Нутопии на внутренней стороне обложки альбома «Mind Games» (1973). В этом году в Венеции пройдет выставка художниц, куда меня пригласили и сказали, что я должна представлять страну. Я подумала и решила: я буду представлять Нутопию. По-моему, это подходящее событие для участия от лица концептуальной страны. Я стараюсь вовлечь в свое творчество как можно больше людей. Например, мое «Дерево желаний» [«Wish Tree», 1981 – наст. вр.] стоит на выставке, и люди выстраиваются в очередь, чтобы привязать к нему свои желания[150]. ‹…›
ХУО: А что еще вы можете рассказать о Нутопии?
ЙО: Это концептуальная страна, и мы все – ее граждане. Вы заметили на задней двери моей квартиры маленькую табличку «Посольство Нутопии»? Джон предложил ее туда повесить. Я покажу вам позже.
ХУО: У вас есть своя символика? И другие посольства?
ЙО: Мы не хотели политизировать и регламентировать нашу концепцию. Мы все – посольства. Мы все – послы.
ХУО: В то время когда вы основали Нутопию, вы общались с Джерри Рубином и Эбби Хоффманом[151]. Если я правильно понимаю, Эбби Хоффман и Джерри Рубин настаивали, чтобы вы с Джоном дали концерт, и это как-то просочилось в прессу. У правительства возникли подозрения, и у вас начались проблемы с визами. Здесь не все ясно: вы одновременно поддерживали и были против Эбби Хоффмана.
ЙО: Нам нравилось представление, которое Чикагская семерка разыграла в суде. Мы видели их по телевизору еще в Лондоне, и сразу встретились с Эбби и Джерри, когда приехали в Нью-Йорк. Но при встрече выяснилось, что наши взгляды решительно расходятся. Они верили в конфронтацию. Концерт, который вы упомянули, должен был стать актом противостояния правительству. Но мы не верили в противостояние. Мы хотели нести перемены через свои картины и песни.
ХУО: То есть вы были согласны с Эбби Хоффманом и Джерри Рубином в том, что перемены необходимы, но у вас кардинально расходились взгляды на то, каким образом их можно достичь.
ЙО: Кардинально. Нам с Джоном было очень важно придерживаться нашего пути – пути мира. Но люди из мира андеграунда считали нас наивными, а правительство, напротив, опасными, так что нам доставалось с обеих сторон.
ХУО: Для выражения своих мирных взглядов вы использовали многие средства, в том числе музыку, но одним из самых известных ваших актов был «постельный протест». Не могли бы вы рассказать мне о вашей акции «В постели за мир» как части стратегии мирного сопротивления?
ЙО: Наш «постельный протест» был театральным актом. Мы превратили наш манифест в спектакль, и это возымело действие. Мы художники, и таков наш способ выражения. Мне кажется, мы кое-чего добились. Например, знаменитая песня «Give Peace a Chance» (1969) доказала, что музыка способна изменить мир. Музыкой можно признаваться в любви, а можно и привлечь внимание к политической ситуации.
ХУО: Много ли раз вы проводили «постельный протест»?
ЙО: Дважды в 1969 году. Первый раз в Амстердаме, второй в Монреале. И ни разу в Нью-Йорке. Хотя многие почему-то думают, что мы устроили его тут. Мы хотели, но не смогли. Поэтому мы выбрали Канаду, чтобы из нее донести до Штатов свое послание.
ХУО: Однако событие приобрело такую огласку, что не имело значения, где вы были на самом деле.
ЙО: Верно, никто и не помнит, где это было! Можно сказать, мы сделали это во всем мире.
ХУО: Если изложить ваш посыл общими словами, вы стремились подняться выше географических, культурных, сексуальных, социальных и каких-либо еще различий между людьми.
ЙО: Очень важно позволять людям быть разными. Вот что мы пытались сказать. Мы чувствовали, что для этой мысли мы очень символические фигуры. Мы с Джоном родом из очень разных мест. Мы мужчина и женщина, мы с Запада и с Востока. Мы представляем совершенно разные слои общества. У нас диаметрально различное происхождение. То есть, в каком-то смысле, мы полные противоположности друг другу, но в то же время мы единое целое. Мы осознавали символизм своих личностей и знали, как люди нас за это ненавидят. Мы вышли за рамки обозначенных для нас позиций. Мы были вместе не только из-за этого, но наш союз казался нам магическим, потому что нам удалось полюбить и полностью понять друг друга, несмотря на все различия.
ХУО: Раз мы заговорили об утопиях, я хотел бы спросить вас о вашей личной утопии, о ваших невоплощенных замыслах – проектах, слишком мелких или масштабных для реализации, проектах, забытых или не прошедших цензуру.
ЙО: Мой лучший невоплощенный проект – тот, что мне придет в голову завтра. Я не люблю оборачиваться на прошлое. Когда мне предложили устроить ретроспективную выставку, я спросила: «Зачем? Разве их проводят не посмертно?» Я против таких затей. В итоге они решили просто не называть ее ретроспективой. Но, в сущности, выставка в центре «Японское общество» [«YES Yoko Ono», Нью-Йорк, 2000] именно ей и была. Если людям интересно, то я согласна сказать «почему бы и нет». Особенно если учесть, что большинство моих работ мало кто видел на момент их создания.
Еще мне не терпится собрать вместе все желания и объединить их в одну башню желаний. Потом, мой «Грузовой поезд» («Freight Train», 1999). Он уже выставлялся в Лондоне и Йокогаме. Это настоящий вагон поезда. Я хочу присоединить его к составу, который идет по европейским городам, и объехать всю Европу. В каждом городе, где поезд остановится, я хочу просить людей написать, что они помнят о случившемся[152]. И так по всей Европе. Вот этот проект я вынашиваю. Мне кажется, Европа – лучшее для него место, там поезд сможет проехать сразу по нескольким странам, это замечательно. Что еще? О, у меня есть много идей для коллажей. И, конечно, музыка… Я собираюсь записывать новый альбом. Уже в самое ближайшее время. Вы слушали пластинку «Blueprint for a Sunrise» (2001)? Так вот, я надеюсь, следующий альбом будет повеселее. [Смеется.]
Родился в 1933 г. в г. Андерсон, штат Индиана, США.
Фил Ниблок – авангардный композитор и режиссер, директор нью-йоркского фонда экспериментальной музыки «Experimental Intermedia». Его самая известная работа – цикл фильмов «Движение работающих людей»/«The Movement of People Working» длительностью более 25 часов, для которого он с 1973 по 1991 год путешествовал по всему миру и снимал людей за ручным трудом в сельской обстановке. Следуя своему базовому принципу, Ниблок пишет музыку без ритма или мелодии, основанную на наращивании микротонов – «очень близких по высоте музыкальных звуков». Накладывая и соединяя длительные звуковые отрезки, полученные в результате обработки звучания акустических инструментов, он создает сложные обертоновые рисунки. Исполнение его музыки обычно длится по несколько часов и сопровождается показом его кинематографических работ. Фил Ниблок не получал традиционного музыкального образования. В 1956 году он получил степень по экономике Университета Индианы и в начале карьеры занимался портретной фотографией джазовых музыкантов и видеосъемкой танцоров в Нью-Йорке.
Данное интервью, ранее не опубликованное, было взято в вестибюле отеля в Лондоне на следующий день после концерта Фила Ниблока в галерее «Серпентайн» 9 октября 2009 года.
ХУО: Хочу начать по порядку: как все начиналось и как вы пришли к искусству, кино и музыке? После учебы в университете, кажется, джаз играл большую роль в вашей жизни?
ФН: Еще в 1948 году я начал собирать записи классической и джазовой музыки, в эпоху пластинок на 78 оборотов. Потом я два года служил в армии. Вернувшись, я переехал из Индианы в Нью-Йорк. Примерно через год я начал работать в компании по продаже звуко-визуального оборудования. Потом уволился, купил фотоаппарат и начал снимать, так все и началось. Я понял, что у меня есть к этому талант, и уже через год стал профессиональным фотохудожником. Я много ходил по галереям и знакомился с искусством.
ХУО: Это было в 1950-х. Журналист Фред Каплан недавно опубликовал книгу под названием «1959: Год, когда все изменилось» («1959: The Year Everything Changed», 2009)[153], в которой он рассказывает об изобретениях 1950-х годов. Принято думать, что все революции произошли в 1960-х, но он пишет, что «на самом деле космическая гонка, сексуальное и политическое раскрепощение, Кубинская революция, Малкольм Экс, джаз, новая журналистика, поколение битников – все это произошло именно в 1950-х». Согласны ли вы с его точкой зрения на невероятные 1950-е?
ФН: Согласен, кроме того, тогда же появилась техника класса Hi-Fi и высококачественное звуковое оборудование, долгоиграющие пластинки, магнитофоны и еще много чего. Я купил свой первый магнитофон в 1953 году, это была первая модель магнитофона в открытой продаже, насколько я помню.
ХУО: В чем выражалось влияние джаза? Я читал, что вы много фотографировали Дюка Эллингтона[154]. Вы стали свидетелем настоящего взрыва джаза в 1950-х.
ФН: Одновременно и взрыва, и спада. Джаз был одним из крайне популярных в 1930-х годах жанров, затем в 1940-е из-за войны наступило затишье.
После нее популярный джаз, джаз биг-бэндов умер. Большинство их исчезло. К концу 1940-х не оставалось никого, кроме Эллингтона, [Каунта] Бэйси, Вуди Германа и Стэна Кентона. Все остальные бэнды распались. На смену прежнему джазу пришла более интеллектуальная музыка.
ХУО: Так называемый концептуальный джаз. Вы были близко знакомы с Дюком Эллингтоном?
ФН: Честно говоря, я был очень стеснителен и не заводил друзей, хотя мне довелось общаться со многими музыкантами. Я ходил в клубы и на разные мероприятия… Сам я еще не играл.
ХУО: Но вы фотографировали.
ФН: Да, фотографировал. Мне нравилось работать с реалистичной фотографией. Когда я позже увлекся экспериментальным кино, мне было сложно воспринимать абстрактные фильмы, вроде лент [Стэна] Брекиджа[155], потому что я привык к реалистичному изображению, как в фильмах Эдварда Уэстона. ‹…›
ХУО: Как вы перешли к кинематографу? Сначала вы сняли свой легендарный фильм о Сан Ра [«The Magic Sun», 1966], потом начали работать над «Движением работающих людей» [«The Movement of People Working», 1973–1985] – документальной лентой о людях за ручным трудом, своего рода портретом «работы».
ФН: Да, но при этом я занимался многими другими вещами. Я сблизился с миром изобразительного искусства и театра, благодаря своей девушке из «Открытого театра». Я фотографировал их и принимал участие в их деятельности. Я сотрудничал с режиссером и хореографом Элейн Саммерс[156]из Театра церкви Джадсона. Мы стали вместе снимать фильмы. У нее был 16-миллиметровый «Болекс», у меня – 8-миллиметровая камера. Потом у меня тоже появился «Болекс». Однажды в 1965 или 1966 году я решил, что буду на протяжении года снимать по фильму в неделю.
ХУО: Ничего себе!
ФН: Каждую неделю я что-то снимал. Некоторые наработки пригодились мне позже. Я сразу работал над несколькими фильмами, кусочками фильмов. Мне было очень интересно снимать танцы[157]. Кино стало для меня естественным средством выражения. Технически это не представляло для меня никакой сложности, я легко монтировал пленку и справлялся с механической частью. Наконец, был готов мой первый фильм – фильм-спектакль из нарезки танцевальных и музыкальных сцен и образов. Над одной из частей я работал с Максом Нойхаусом[158].
ХУО: Как этот фильм назывался?
ФН: Кажется, он назывался просто «Environments». Это было в 1968 году[159].
ХУО: Вы тогда еще не писали сами музыку.
ФН: Я написал свое первое сочинение как раз для его съемок. ‹…› Я знал, как композиция должна звучать, поэтому просто взял и написал ее.
ХУО: [Флейтистка/басистка] Сьюзен Стенджер[160] сказала мне, что вы практически не монтируете свои фильмы.
ФН: Это не совсем правда. Идея длинной серии фильмов «Движение работающих людей» в 1973 году ко мне пришла минут за пять, не больше. Я успел подумать о том, что я могу сделать и чего не могу, составил для себя инструкцию. В частности, мне пришло в голову свести к минимуму монтаж, сделать так, чтоб зритель не чувствовал смены кадра. В итоге они вышли очень долгими. Когда кадр длится гораздо больше 10 секунд, перестаешь понимать, зачем вообще нужен монтаж. Я подолгу снимал без перерыва и не видел причин потом резать сцены. У меня ведь не стояло цели выстроить сюжет, не было развития или повествования. Так что я просто оставил все в хронологическом порядке. На всю серию у меня ушло 30–40 часов пленки.
ХУО: В 1950-х вы начали экспериментировать с магнитной пленкой и тогда же собрали свои собственные динамики, а потом, в конце 1960-х, начали писать музыкальные композиции. Вы называете их «Энвайронментами», «Environments». Вы первый употребили это слово таким образом.
ФН: «Энвайронменты» представляли собой произведения-перформансы из серии образов, музыки и танца. Они получались очень громоздкими. Без трудностей я мог поставить их только в Нью-Йорке, но никак не ехать в турне по стране. И в труппе нас было пять человек, поэтому для продюсеров наш проект выходил слишком затратным. Я почувствовал потребность одновременно отойти от искусственной природы танца и начать делать что-то самостоятельно.
ХУО: Театр одного актера?
ФН: Скорее, выставка одного художника, хотя мне хотелось сохранить театральную визуальную составляющую. Так родилась идея танцевального фильма о трудящихся людях. Я начал работать над проектом и планировал заниматься им года три, а потом переключиться на что-то другое, но процесс пошел так гладко, что я не мог оторваться 18 лет. [Смеется.]
ХУО: Расскажите, пожалуйста, о серии «Энвайронментов», над которой вы работали в конце 1960-х, до того, как перешли от танца к кино.
ФН: До того как перешел к кино в принятом смысле этого слова. Кажется, «Энвайронментов» было четыре. Когда мы с Мэтью [Коплендом] работали над выставкой [в галерее «Sketch», Лондон, 2007], я понял, что больше всего мне нравится последний[161].
ХУО: Последний хэппенинг, последний «Энвайронмент». Как он назывался?
ФН: «Радиусы в 10 000 дюймов» («Ten Hundred Inch Radii») [«Environments IV», 1971]. У них перекликались названия с предыдущим, «Радиус в 100 миль» («A 100 Mile Radius») [«Environments III», 1971]. Мы снимали его в радиусе ста миль вокруг одного города в штате Нью-Йорк, рядом с Ютикой. ‹…›
ХУО: Как вы придумали термин «энвайронмент»? Его еще употреблял Аллан Капроу. Вы знали его?
ФН: Не помню, чтобы мы пересекались, но я видел много его хеппенингов…
ХУО: На художественной сцене Нью-Йорка? ФН: Да.
ХУО: Значит, изобразительное искусство сыграло роль.
ФН: Конечно. ‹…›
ХУО: Этим летом я брал интервью у Стива Райха[162], и мы с ним разговаривали о минимализме, перкуссии и деятелях-минималистах.
ФН: Тех, что использовали технику повторов?
ХУО: Да. Что скажете о них?
ФН: А они были минималистами? [Смеется.]
ХУО: Вас в такие рамки загнать нельзя, вы свободны и независимы от категорий.
ФН: Потому что у меня визуальный ряд не сочетается с аудионаполнением. Видеоряд, наверное, можно назвать минималистским, но музыка куда более абстрактна. Людям сложно понять, как они связаны. Как вы видите связь между музыкой и видеорядом? [В «Движении работающих людей».]
ХУО: Мне казалось, они образуют некий оксюморон. В хорошем смысле.
ФН: Вы не видите сходства?
ХУО: Вы рассказали о своем подходе, о том, что вы не монтировали фильм, так что сходство, наверное, в прогрессивном характере и того, и другого.
ФН: Неправда, я монтировал свой фильм – просто делал это иначе. Минимализму по сути своей свойственно отказываться от многих возможностей, которые предлагают технологии, и акцентировать внимание на узком наборе аспектов. Так я вижу минимализм. Я определенно стремился свести к минимуму обработку в виде монтажа и не акцентировать внимание на временной структуре. Для меня отсутствие времени – это то, что объединяет музыку и фильм. Мне очень интересно восприятие людей, которые не знают, сколько он длится.
ХУО: Вы избавляетесь от времени или предлагаете его другую концепцию?
ФН: И тот и другой вариант мне нравится. Мне интересно, когда люди по-разному воспринимают происходящее. ‹…›
ХУО: Вы рассказывали, что в начале вашей карьеры композитора на вас сильно повлиял Мортон Фельдман?[163]
ФН: Фельдман – очень интересная фигура. В 1960 или 1961 году он написал несколько произведений под названием «Длительности» («Durations»), и я был на премьере одного из них во время серии концертов современной музыки. Меня впечатлило, что в «Длительностях» отсутствовали ритм, мелодия или временная структура. Это дает невероятную свободу для написания музыки.
ХУО: Ни мелодии, ни ритма, ни гармонии?
ФН: Ну, гармония там, наверное, была.
ХУО: Кто-то процитировал вас в журнале «Wire»: «…ни ритма, ни мелодии, ни гармонии, никакого дерьма»[164]. Значит, все началось с Фельдмана…
ФН: Видимо, да. ‹…›
ХУО: Как еще повлияли технологии на ваши ранние произведения? Их часто сравнивают с ревом реактивных двигателей…
ФН: Да уж. [Смеется.] Очевидно, в то время техника была куда более примитивной и механической. С пленкой я обращался очень легко. С электроникой дело обстояло иначе, но проявка и работа с пленкой – резка, склейка Hi-Fi материала, сборка звуковых систем и так далее – мне все это давалось крайне просто. Примерно в 1967 году я начал работать над интерактивными «энвайронментами», физически интерактивными, то есть зритель заходил в комнату, видел проекцию на стене, наступал на определенную точку, и одна проекция сменялась следующей. Я делал разные объекты, делал даже объекты в виде линз, и собирал из линз самодельные проекторы. Мастерил разные реле, пусковые устройства и фотодиоды. Транзисторы тогда только появились, поэтому техника у меня была незамысловатая.
ХУО: Какие-то ваши поделки сохранилось?
ФН: Есть несколько коробок и банок всякого барахла, но нет! Не думаю, что их можно восстановить. Сейчас тех деталей просто нет, теперь все делается по-другому.
ХУО: Вы были новатором во многих своих начинаниях. Не могли бы вы рассказать о ключевых моментах вашей жизни, о ваших откровениях?
ФН: Не припоминаю таких… Может, похмелье виновато. Но нет, их не было. Я говорил, что «Движение работающих людей» я придумал за пять минут, но ни с чем конкретным этот момент не связан, я просто помню, что так было. Так обычно и случалось: я быстро что-то придумывал, и все – готово. Мне нравится, когда пять минут раздумий приводят к 25 годам работы. Когда я начал заниматься музыкой, меня заинтересовало, как микротоны образуют гармонии. В общем-то, в музыке я ничем больше и не занимался, только микротонами. Очень близкими по высоте звуками, которые вместе образуют новые тона, особенно если взять богатый тембр. Можно назвать откровением мое увлечение этими близкими по высоте звуками.
В конце 1980-х я пробовал экспериментировать с электронным звучанием, но все равно вернулся к акустическим инструментам. Мне просто нравится, как они звучат. Всю музыку рождают инструменты; музыка-рожденная-инструментами. Хотя электроника хорошо подходит для работы с микротонами. Робот – он всего лишь робот, но с помощью него можно генерировать длительные звуки, которые раскрывают микротоны.
ХУО: Вы выделили в своем творчестве особенную роль тромбону, например, в вашем первом произведении для тромбона [«A Trombone Piece», 1979]…
ФН: Все инструменты важны, не только тромбон. Мне удалось поработать с двумя очень талантливыми тромбонистами.
ХУО: Что изменил цифровой век в этом плане? Остались ли инструменты так же важны?
ФН: Нет, я переключился на магнитную пленку. Как я говорил, у меня был магнитофон 1953 года. К работе с пленкой и многоканальными магнитофонами я пришел очень естественным образом. Свои первые сочинения я записывал на пленку в обе стороны, получался совершенно жуткий искусственно сгенерированный шум. Технологии развивались параллельно с моими идеями. Что-то пришло мне в голову – и вот для этого уже есть необходимые технические средства.
ХУО: Мне кажется, с развитием технологий и с тех пор, как вы стали пользоваться «Pro Tools» [компьютерная программа], ваши работы стали меняться, хоть вы и остаетесь верны инструментам. Дело в количестве измерений. Вы перешли с четырех каналов на восемь, потом с 24 на 32. Можно ли сказать, что с цифровые технологии расширили измерения музыки?
ФН: Думаю, в первую очередь увеличилась плотность звука. Сейчас легко можно делать очень сложные звуковые конструкции. Мне выдалась возможность поработать со своим другом в его студии в Бостоне, где у него был один из первых 16-канальных магнитофонов «Ampex». Потом я вернулся к своему восьмиканальному магнитофону, на котором я все время работал. Одно из главных преимуществ «Pro Tools» – что это не занимает места. Все, что мне нужно для работы с «Pro Tools», сейчас в этой сумке – компьютер и жесткий диск. Я могу писать музыку прямо тут.
ХУО: А значит, где угодно – у вас с собой переносная студия! Расскажите о своих партитурах – мне очень интересна эта тема с точки зрения выставок, идея незавершенной структуры, как архитектура у Седрика Прайса[165]. Разве можно иметь окончательный план здания, если его окружение не статично и постоянно изменяется? Пьер Булез в интервью сказал мне, что для него партитуры бесконечны, что он постоянно продолжает их дописывать, создавая, таким образом, партитуры партитур. Партитура – это процесс. Согласны ли вы с ним? Как вы пишете партитуры? [Фил Ниблок показывает партитуры на экране ноутбука.]
ФН: Процесс, на мой взгляд, – верное слово. Написание партитуры – это просто часть процесса. Во времена, когда я работал над произведениями для виолончели [«3 to 7-196», 1974], я писал партитуры на бумаге. А потом я брал пленку с исходным звуком и перезаписывал ее с одного канала на несколько других. Потом я выстраивал структуру произведения, но при этом не слушал, что получалось. Партитура содержит в себе всю идею, и ее создание – это первостепенный процесс.
ХУО: Открытая ли получалась партитура? Давала ли она свободу интерпретации?
ФН: Ни в коем случае. Я пишу решительно закрытые партитуры! Как только я записал их на бумаге, больше никакой свободы. [Смеется.] Я никогда даже не возвращался к своим работам, они всегда оставались в том виде, какой для них предусматривала партитура.
ХУО: Вы бы свои партитуры скорее назвали «рисунками». ФН: Да.
ХУО: Вы не издавали их еще в виде книги?
ФН: Нет, но велика вероятность, что в скором будущем это случится[166].
ХУО: Однако в литературе о вас пишут, что ваши партитуры предполагают некоторые вариации…
ФН: Верно, во время исполнения, как, например, на вчерашнем концерте [в галерее «Серпентайн»]. Первую часть музыканты играли без партитуры, параллельно с воспроизведением записи – в наше время это обычная практика. Во второй части они уже играли по партитуре.
У меня есть произведения двух типов. Раньше я обычно шел в студию, где музыкант играл для меня несколько нот, я их записывал и потом редактировал получившийся материал. Он служил мне базой для будущего произведения, как при работе с партитурой для многоканального магнитофона, так и с «Pro Tools». Затем я начинал выстраивать произведение на нескольких каналах, на основе партитуры или в «Pro Tools». В «Pro Tools» партитура сразу становится произведением, ты просто сразу работаешь с медиафайлами на дорожках. Другого рода сочинения я начал писать с 1998 года. Для них я пишу партитуры, которые уже нужно читать с листа.
ХУО: В ваших партитурах отсутствует неопределенность, но вы согласны с Пьером Булезом, что партитура – это процесс. А что вы думаете о его идее «партитуры партитуры»? О том, что остается за рамками партитуры?
ФН: Булез полагал, что для разных музыкантов нормально по-разному играть одно и то же произведение, а я так не считаю. Для меня самое страшное – играть с кем-то, недостаточно отрепетировав материал, когда музыканты теряются и начинают импровизировать.
ХУО: Вам это не нравится?
ФН: Нет, это какая-то ерунда. Это уже не мое произведение. Меня расстраивает, когда так происходит.
ХУО: Ранее, в других интервью, в ответ на вопрос о вашем любимом сочинении вы говорили, что это «Pan Fried» 1970 года, сочинение для фортепиано.
ФН: Да, я его очень люблю, хоть оно и не вписывается в мои обычные стандарты. Его исполняют на фортепиано, как и вчерашние произведения. К одной-единственной струне фортепиано привязывается нейлоновая струна, которая тянет ее вертикально вверх. Не пилит и не скользит по ней – просто тянет. Вибрации в нейлоне передаются фортепианной струне. Звук получается настолько шероховатый, что основной тон практически не слышно.
ХУО: Почему оно называется «Pan Fried» – «Жаренный на сковороде»?
ФН: У меня есть серия произведений с гастрономическими названиями. Они вошли во второй CD-диск серии «Touch», он назывался «Touch Food» (2003). К диску прилагался буклет с фотографиями разнообразной еды и сладостей.
ХУО: Кажется, вы еще говорили, что для вас особое значение имеет произведение «Hurdy Hurry» (2000).
ФН: Мне очень нравится «Hurdy Hurry». Но центральное место в моей творческой биографии все же занимает работа под названием «Five More String Quartets» («Еще пять струнных квартетов», 1992–1995). При его исполнении музыканты ориентируются на тщательно выстроенные синусоидальные сигналы [основа любого звука], которые они слышат в наушниках. Мне кажется, структура этого произведения и форма его исполнения – это кульминация моего творчества. Началось все с записи исполнения одного квартета, потом он же сыграл параллельно со своей записью в наушниках. В итоге в записи звучат пять наложенных квартетов, а вживую часто играет еще и шестой.
ХУО: Прошлым вечером вы дали концерт в галерее «Серпентайн». Сейчас вы также работаете с Мэтью Коуплендом[167] над шоу в Лионе. Я хотел спросить, что вас связывает с изобразительным искусством? Мы говорили о мире кинематографа, о мире музыки, но ваше творчество оказало большое влияние именно на изобразительное искусство. Почему так вышло?
ФН: Я скорее принадлежу к миру изобразительного искусства, чем к миру музыки или кинематографа. Мои фильмы в сфере кино практически никто не знает. ‹…›
ХУО: Ваше имя часто ассоциируют со стилем «нойз» в музыке. Что вас связывает с этим процветающим жанром, с Масами Акитой и «Merzbow», Микой Вайнио и «Pan Sonic», которые считают себя вашими приемниками? Вас устраивает, что «нойз» стал самостоятельным стилем?
ФН: Не просто устраивает – благодаря ему я могу продолжать заниматься своим делом. Это и в самом деле моя ниша. Так что, скорее, они мне дали жизнь, чем я им.
Брайан Ино родился в 1948 году в г. Вудбридж, Англия. Живет и работает в Лондоне.
Во время обучения в музыкальной школе Ипсвич Брайан Ино испытал влияние современных авангардных композиторов, таких как Корнелиус Кардью, Джон Кейдж и Стив Райх. Хоть он и не владел музыкальными инструментами, он много экспериментировал с записывающими многоканальными магнитофонами и в 1968 году написал теоретическое пособие «Музыка для немузыкантов»/«Music for non Musicians». В 1971 году он приобрел известность как участник знаковой глэм-рок группы «Roxy Music», где он играл на синтезаторе, формируя электронный элемент звучания группы. Вскоре Ино начал работать над своими первыми сольными поп-проектами с замысловатыми текстами и причудливыми вокальными партиями и в 1975 году выпустил свой третий сольный альбом, «Another Green World», состоявший из девяти долгих, цикличных инструментальных электронных композиций. В ходе своих экспериментов он первым употребил термин «эмбиент» и впоследствии обрел широкое признание среди слушателей и критиков как композитор и как продюсер Дэвида Боуи и групп «Devo» и «Talking Heads». В 1979 году Ино начал работать над серией вертикальных видеоинсталляций, сопровождавшихся его композициями в стиле эмбиент. В 2006 году он выпустил компьютерную программу «77 Million Paintings», которая позволяет в режиме реального времени генерировать видео и музыку.
Данное интервью было записано в Лондоне в 2000 году. Впервые опубликовано в книге: Hans Ulrich Obrist. Interviews, Volume I. Ed. «Charta Editions», Milan, 2003, Р. 210–222.
ХУО: В вашей книге «Год со вздутым аппендиксом» («A Year with
Swollen Appendices», 1996)[168] есть замечательный список под простым заголовком «Я есть» («I am») из 30 существительных – 30 ролей, которые вы воплощаете:
«Я есть млекопитающее
отец
европеец
гетеросексуал
художник
сын
изобретатель
англосакс
дядя
знаменитость
онанист
повар
садовник
импровизатор
муж
музыкант
руководитель компании
работодатель
учитель
любитель вина
велосипедист
не водитель
прагматик
продюсер
писатель
пользователь компьютера
европеоид
тот, у кого берут интервью
ворчун
дрейфующий автор решений»
Как вам пришло в голову составить такой список?
БИ: Я сел и сказал себе: «Нужно подумать о том, кто я есть». Вы никогда не составляли про себя такого списка? Это ужасно интересно, потому что о паре вещей я и не задумывался, пока не стал его писать. Когда люди начинают работать, они обычно ставят профессию на первое место в списке, а все остальное отходит на второй план. Этот вариант не для меня.
ХУО: Этим упражнением на самоопределение вы занялись в 1995 году, но давайте вернемся к истокам: кем был Брайан Ино с самого начала? Еще не музыкант, не композитор, не писатель, не директор компании, не знаменитость…
БИ: Что ж, я начинал как студент факультета изобразительных искусств.
ХУО: Где вы учились?
БИ: Я учился в очень интересном экспериментальном колледже – Школе искусств Ипсвич [графство Саффолк, Англия] Роя Аскотта[169]. Я считаю его великим деятелем образования, который умел создать плодородную атмосферу для творческой деятельности. Он был крайне схоластичным человеком, а схоластика полезна для образования. Либеральный подход, на мой взгляд, в этом плане ей уступает. Я считаю, у преподавателя должна быть твердая позиция, чтобы студент мог сформировать свои взгляды, ориентируясь на нее. Чем яснее позиция, тем понятнее, с чем конкретно ты согласен, а с чем – нет. Учиться там было крайне увлекательно, и тогда я начал свои музыкальные эксперименты. Там у меня впервые в руках оказался магнитофон.
ХУО: Свои первые произведения вы написали еще во время учебы?
БИ: Моя первая композиция не сильно отличалась от того, что я пишу сейчас. В колледже у нас был один громадный металлический светоотражатель, и я использовал его как колокол. Я записывал его протяжный звон, а потом изменял на магнитофоне скорость воспроизведения и накладывал друг на друга слои глубоких звуков. Потом я все это проигрывал в специальной комнате – было важно, что для этого требовалась отдельная комната. Я ставил вдоль стен динамики, и звук наполнял пространство – по сути, это была моя первая аудиоинсталляция. После колледжа я присоединился к группе, которая придавала большое значение своему визуальному образу. В то время это было непривычно. В конце 1960-х – начале 1970-х музыканты считали, что повернуться спиной к зрителю и полностью уйти в музыку – это нормально. Нас раздражал такой…
ХУО:…экзистенциальный творческий подход?
БИ: Да, именно, такой романтический подход, когда ты растворяешься в музыке и забываешь, что на тебя, вообще-то, смотрят люди. К началу 1970-х нас тошнило от него. Мы хотели театральности, хотели элемент шоу. К тому же, рок-музыка на тот момент существовала уже достаточно долго – 15 лет, – чтобы можно было начать оборачиваться назад. Задача музыканта в группе, подобной нашей, не только в том, чтобы играть музыку, но и в том, чтобы занять свою позицию в истории этой музыки. Мы вполне сознательно заимствовали вещи из прошлых музыкальных форм и сплетали их между собой.
ХУО: Это, кажется, называется «протосэмплированием».
БИ: Да. Мы прекрасно осознавали, что делаем. Рок-музыка впервые становилась материалом для самой себя, источником самой себя. Я думаю, тогда и зародилось сэмплирование. В конце 1970-х мы вместе с Дэвидом Бирном[170]записывали альбом «My Life in the Bush of Ghosts» (1981)…
ХУО:…на котором вы активно прибегали к сэмплированию и использовали «найденные звуки».
БИ: Да, и к такому подходу меня подтолкнули две вещи. Во-первых, мне страшно надоело писать песни. Мне опостылела идея вокала как центрального элемента композиции, а музыки как фоновой структуры для чьих-то высказанных мыслей. Я решительно от этого устал, да мне никогда это особенно и не нравилось. Я начал переосмыслять вокал, пробовать писать песни, в которых вокал занимал бы ту же роль, что и остальные инструменты. Я убрал его из фокуса и перестал возлагать на него всю смысловую нагрузку песни.
ХУО: В какой-то мере это чувствовалось в ваших ранних сольных альбомах 1970-х годов. От них и до зарождения эмбиента ваша музыка развивалась достаточно линейно.
БИ: Я думаю, с моих первых записей начала 1970-х я постепенно проявлял все больше интереса к «фону» в музыке и меньше – к переднему плану. В традиционной структуре песен внизу в основе лежит ритм-секция, потом в середине идет прослойка инструментов, и наверху восседает голос. Большинство моей любимой музыки было устроено иначе. В ней все сглаживалось, как, например, в соул-музыке: в ней ритм-секция настолько громкая, что голос сливается с ритмом. Я осознал, что всю мою любимую музыку объединяет один и тот же признак, и тогда начал стараться сам под него попадать. Впоследствии я назвал этот жанр «эмбиентом».
ХУО: Ваше творчество всегда объединяло в себе искусство и технологии. Что вас к этому привело? Образовательные методы Роя Аскотта в Ипсвиче?
БИ: Полагаю, что да. Все началось с середины 1960-х, времени, когда в Англии удивительным образом сплетались современная музыка, авангардная музыка, поп-музыка и веяния изобразительного искусства. В воздухе витала идея, что в искусстве главное не техника, а концепция. Если у тебя скопился запас концепций, ты запросто можешь переместиться в другую сферу и развивать свои концепции уже в ней. Вы, вероятно, слышали об оркестре «Scratch Orchestra» Корнелиуса Кардью[171]. Это – наглядный пример того, о чем я говорю. В теории не было никакой разницы между литературным произведением и моделью поведения, перформансом, музыкой или живописью. Для одной и той же идеи открывалось множество путей воплощения. Сегодня ты рисуешь картину, а завтра пишешь музыкальное сочинение. Меня особенно интересовала подоплека этого явления, а именно: из каких внутренних процессов все же рождается искусство? Как их описать? Я уже тогда увлекался кибернетикой, и это по большей части заслуга Роя Аскотта – он был энтузиастом кибернетики.
ХУО: Любопытно, что диссертация Роя Аскотта «Поведенческое искусство и кибернетическое видение» (1966), начинается с утверждения о том, что интерактивное искусство должно освободить себя от стремления к «идеальному объекту». Какие конкретно музыкальные эксперименты того времени оказали на вас влияние?
БИ: Было одно конкретное музыкальное произведение, которое полностью завладело моим вниманием, и я очень долгое время думал и писал о нем, пытаясь понять, как же оно устроено. Я чувствовал сокрытый в нем совершенно новый подход к толкованию искусства – и искусства, и культуры в целом. Произведение написал Корнелиус Кардью, и называлось оно «Великое учение» («The Great Learning», 1969–1971)[172]. В моей книге «Год со вздутым аппендиксом» даже есть эссе на эту тему. Я написал его давно, в 1975 году, поэтому стиль изложения хромает, но с содержанием я все еще полностью согласен. Я отметил, что по способу композиции это сочинение отличается от всей классической и современной поп-музыки. Композитор обозначил некий ряд правил и условий, которые формируют ядро произведения, а индивидуальное исполнение – это уже результат подбора подходящих под эти правила и условия вариаций.
ХУО: Произведение растет самостоятельно, как сложная динамическая система?
БИ: Именно. Ты не строишь дом – а написание симфонической музыки сродни постройке кафедрального собора – а формируешь семечко. Ты сажаешь его, а потом уже из него что-то вырастает.
ХУО: Идея о развитии во времени наводит меня на мысли о Гордоне Паске[173] и архитекторе Седрике Прайсе[174].
БИ: Знаете, они оба приезжали с лекциями в Ипсвич. Их мысли запали мне в душу, например идея того, что творец может вместо того, чтобы доводить произведение до конца, дать ему только начало. Он создает основание, но процесс воплощения самой работы – это процесс ее роста в определенных условиях.
ХУО: Что еще оказало на вас влияние?
БИ: Еще до «The Great Learning» на меня произвели впечатления магнитофонные произведения Стива Райха. Он делал их практически из ничего, и это меня потрясло. Меня привел в восторг тот факт, что из крошечного импульса может вырасти столько музыки. Композиция «It's Gonna Rain» (1965) состоит из зацикленного фрагмента длиной менее двух секунд[175]. Мне нравилось, что у него простые формы составляют основу произведения, и с тех пор я много раз сам так делал: запускал два параллельных музыкальных отрывка и позволял им идти внахлест, разным образом перекликаться друг с другом и никак не контролировал процесс. А в конце 1970-х я увидел игру «Жизнь» Джона Конвея (1970)[176]. Джон Конвей – английский математик. Он изучал инструктивную теорию и изобрел эту простую игру. Начинается она с пустой размеченной на клетки плоскости. У каждой клетки может быть два состояния: она либо живая, либо мертвая. Допустим, вот это – живая клетка [кликает на экране компьютера]. У этой игры всего три правила, от которых зависит, что произойдет в следующем поколении – оживет ли клетка, останется живой или умрет. Все зависит от состояния соседних клеток: если вокруг три живые клетки, то центральная клетка оживает. Клетка с более чем тремя живыми соседями умирает от перенаселения, а клетка с менее чем тремя живыми соседями умирает от изоляции. Всего три правила, и кажется, будто не так уж много может произойти. Потом ты даешь компьютеру команду выполнить правила – нажимаешь «пуск», – и процесс запускается [компьютер издает звуки]. Это самое прекрасное зрелище на свете. Ты ахаешь от изумления и начинаешь менять изначальную расстановку, меняешь состояние одной клетки, всего одной, и понеслась [жестикулирует руками], и снова конец. Это самая не интуитивная вещь, какую можно вообразить. Изначальная позиция определяет в буквальном смысле все, и интуиции тут нет места совершенно. Правила очень просты и не позволяют никаких вариаций. Ничего сверхъестественного, их очень просто понять, но сочетание этих трех простых правил порождает сложность такого уровня, что это может изменить твою жизнь. Увидев эту игру, начинаешь полностью верить в дарвиновскую теорию эволюции.
ХУО: В ней тоже нельзя предсказать результат?
БИ: Да, и что поразительно, так это невозможность интуитивно предугадать события. Я люблю показывать игру людям, которые думают, будто у них отличная интуиция. Она наглядно показывает, как три простейших правила рождают непредсказуемое будущее. В следующем месяце я читаю лекцию на эту тему в лондонском Институте современного искусства, и мне кажется, игра «Жизнь» самым ярким образом демонстрирует, какой захватывающей может быть наука.
ХУО: В вашем творчестве эта игра стала моделью произведений, написанных по принципу изначально установленных правил, так?
БИ: Совершенно верно. Игра Конвея заставила меня задуматься о системах, выстроенных на основе правил. В результате я написал «Музыку для аэропортов» [«Ambient Music 1: Music for Airports», 1978] – музыку, написанную по заданным правилам, – и тогда же начал работать с компьютером. Компьютеры интересны мне тем, что они могут обрабатывать много правил одновременно. Долгое время я пользовался программой «Koan»[177], в которой выставлял условия для тональности, гармонизации и темпа, а также некоторое количество вероятностных правил. Я мог задать, например: «Использовать такую-то тональность, при этом 40 % времени играть такую-то ноту и 80 % – такую-то» и т. п. Каждое музыкальное произведение – маленький механизм по генерации звука. Каждый набор правил – это некий геном, и исполнения произведения – это организмы с одним геномом. Они родственны, но не идентичны. Сейчас я работаю по схожей системе, которая каждый раз по-новому выстраивает конфигурацию произведения. Изначальный материал может быть крошечным, но количество вариаций в результате необъятно.
ХУО: Непредсказуемость результата в контексте искусства делает интереснейшей связку инструкции и исполнения – она создает зазор неопределенности между тем, как произведение звучит или выглядит в воображении, и интерпретацией, различными интерпретациями в рамках данных инструкций. Артисты Флуксуса делали упор именно на несоответствие между замыслом автора и пониманием зрителя. Как говорил [Робер] Филью: «Можно сделать хорошо, можно сделать плохо или не сделать вовсе, но иерархии между этими тремя случаями нет».
БИ: Отношение к этому зависит от того, насколько для тебя творческий труд заключается именно в процессе созидания и насколько для тебя важно создать нечто отдельное от тебя самого и твоей личной интерпретации. К примеру, 30 лет назад я работал с Робером Филью и Джорджем Брехтом. Я написал с ними несколько вещей. Их процесс работы меня завораживал. Очень часто результат был совершенно неважен. Результат – это не цель. Цель – это сам процесс, а результат – его пережиток, просто указатель на то, что ему предшествовало. Но я не хотел работать только так. Я хотел, чтобы произведения могли существовать в мире сами по себе. Когда я говорю о посаженном семени, я имею в виду в том числе свойства поп-музыки, о которых я прекрасно отдаю себе отчет. В поп-музыке ты можешь посадить вполне невинное семя, а вырастет оно во что-то абсолютно невообразимое, что повлечет за собой бурные интерпретации и задействует миллионы людей. Это влияет определенным образом на набор инструкций, который я использую.
ХУО: Филью писал свои работы в основном для 20 людей, 20 свидетелей…
БИ: Это другое. Он сам находился рядом с этими 20 людьми, а значит, и воспринимали они все иначе. Я хочу писать произведения, которые могут свободно существовать без моего непосредственного присутствия. Музыканты выпускают записи, и мне очень нравится это выражение, потому что именно это ты и делаешь: ты выпускаешь записи из рук. Выпускаешь их в мир, где ты не стоишь рядом и не выдумываешь для них оправдания. Даешь им свободу, и они парят в пространстве вместе со всеми остальными произведениями искусства и принимают на себя ту ценность, которую люди на них возлагают. Мне очень близка идея ценности, возлагаемой зрителем. В отличие от старой идеи, когда художники брали мертвый материал и сами наполняли его ценностью. Мне с 15 лет претила эта мысль. Мне нравилось творить вещи, которые сами бы навлекали на себя ценность. Пускай и очень небольшие. Ты привносишь нечто в мир, и оно либо погибает, как происходит чаще всего, либо начинает накапливать резонанс. Для 1978 года альбом «Music for Airports» звучал очень странно, так как был крайне минималистичен, но при этом позиционировался как поп-запись. Я не говорил: вот вам мудреная минималистская музыка. Я называл ее поп-музыкой.
ХУО: Расскажите, почему в ваших работах важны названия?
БИ: Я довольно давно уже не пишу песен, но я люблю слова, и названия – это весь текст, какой у меня есть. Мне приходится парой слов рисовать очень большую картину. «Music for Airports» в этом плане имела успех: сразу после выхода все обратили внимание на странное название и заинтересовались, что оно означает. Еще мне нравится «Before and After Science» («До и после науки», 1977). Я тщательно продумывал названия. Людям нужно только подсказать, где искать смысл, и они его там найдут.
ХУО: Не могли бы вы рассказать о ваших нереализованных проектах?
БИ: Имеете в виду, намеренно не реализованных?
ХУО: Нереализованные проекты бывают самые разные, но меня интересуют именно слишком масштабные, слишком маленькие, слишком дорогие, не прошедшие цензуру или ваш личный ценз или просто ожидающие своего часа – непроложенные дороги.
БИ: Понял. Один из невоплощенных проектов, над которым я очень долго размышлял, – это создание музыки практически на атомном уровне. При помощи программ для генерации звука, в том числе на основе установленных правил, я обрабатываю уже существующие звуковые фрагменты. Но мне хотелось бы при помощи тех же систем непосредственно создавать звуки на атомном уровне, точно таким же образом, как я потом задаю их форму, использовать тот же набор принципов. Это очень сложно технически, поэтому пока я этим не занимался, но планирую в будущем. Это сугубо технический проект, и я вынашиваю его уже лет 25. У меня накопилось для него много заметок и набросков, и однажды я ими воспользуюсь. Еще один нереализованный проект, непроложенная дорога – это идея «тихих клубов», клубов, где практически ничего не происходит.
ХУО: И в чем же смысл?
БИ: У меня уже давно возникла мысль построить тихий клуб – не арт-инсталляцию, а именно открытый клуб, куда можно прийти и расслабиться. Для них ничего и не требуется. Я уже делал их в виде инсталляций для музеев, вроде демоверсий конечного результата, но для меня этого недостаточно.
Я хочу открыть настоящие клубы и посмотреть, приживется ли идея. Когда я думаю о своих непроложенных дорогах, мне становится грустно. Их ведь так много. Целая непроложенная дорожная сеть, черт возьми.
Еще я сейчас размышляю над проектом программы для генерации текста. Я много имел дело с музыкальным программным обеспечением, и очевидно, что с музыкой работать становится все проще и проще. Я сотрудничал со многими людьми и видел, что музыка может рождаться моментально, но текст – никогда. Текст не может взять и случиться. И у меня возникла мысль: наверное, не так уж сложно разработать программу, куда можно ввести интересные тебе куски текста, волнующие тебя мысли и задать рисунок рифмовки, размер и схему чередования слов, а она потом тебе выдаст некое сочетание. Очень редко, конечно, может сразу получиться готовый текст, но, по крайней мере, тебе будет от чего оттолкнуться. Например, возьмешь словосочетание «опустошение в эпицентре» и поставишь его в ряд с теми словами и фразами, которые сами возникнут в голове…
ХУО: Звучит как компьютеризированная версия схемы ограничений Жоржа Перека для написания стихов.
БИ: Писать песни – не то же, что писать стихи. В песнях куда большую роль играют ритм, мелодия и ударения.
ХУО: Еще один ваш нереализованный проект – проект садов в Барселоне, парк «Real World Experience». Почему именно садов?
БИ: Я люблю сады. Они мне напоминают скульптуры невероятно сложной формы. Скульпторам живется куда легче, чем садовникам. Садовнику приходится думать не только о переменах в течение года, но и о процессе роста с годами. Он имеет дело с удивительным четырехмерным комплексом, требующим работы с учетом пространства и времени. Администрация Барселоны пригласила Питера Гэбриела[178], Лори Андерсон[179] и меня, чтобы мы спроектировали сад для города.
ХУО: Инициатива подобного сотрудничества исходила от города или от вас?
БИ: От нас, от нас. Питер задумал построить своеобразный новейший парк развлечений. Чем больше я думал над проектом, тем больше я понимал, что лучше разбить обычный парк. Нам выделили землю в Барселоне, в черте города. Поддержка парка развлечений требует огромных денег, а значит, пришлось бы много брать за вход и, как следствие, отсекать основную часть посетителей среди населения и создавать замкнутое пространство, куда можно заходить только изредка. Поэтому мы стали думать над проектом парка, где могла бы проходить самая разная городская активность – люди могли бы кататься на скейтборде, сноуборде, роликах, танцевать. Может, проект еще удастся возродить.
ХУО: Ваш совместный проект для Барселоны наводит меня на следующий вопрос – о совместных проектах в целом. Могли бы вы назвать вашу работу в качестве продюсера с Дэвидом Боуи, «Talking Heads» Дэвида Бирна и «U2» продолжительным совместным творчеством? Как складывались ваши взаимоотношения при сотрудничестве?
БИ: Мне нравится работать с людьми. Во-первых, при сотрудничестве у тебя всегда есть стимул вовремя закончить работу. Мне его не хватает, когда я один. Я довожу работу до какого-то промежуточного этапа и переключаюсь на другое занятие. Когда ты работаешь с кем-то еще, ты не хочешь подводить человека, ты пообещал ему – так или иначе, ты стремишься довести дело до конца. Во-вторых, при совместной работе тебе регулярно приходится смотреть на вещи под таким углом, под каким ты бы никогда не посмотрел при других обстоятельствах. Ситуация куда более живая. У тебя под ногами без конца меняется ландшафт, и тебе приходится постоянно искать равновесие. С определенными людьми мне особенно нравится работать, и со временем моя роль в творчестве становится все более ясной. Меня считают продюсером, но это странное название для моей деятельности. Как правило, я просто помогаю людям делать хорошую музыку, только и всего. Если надо им помочь с сочинением, значит, я помогу. Если надо обустроить студию под их нужды, я это сделаю. Как известно, мы долго и продуктивно работали с Дэвидом Боуи [альбомы «Low», «Heroes» и «Lodger», 1977–1979]. Мне нравится с ним сотрудничать.
ХУО: Вы продолжаете работать вместе?
БИ: Да, мы как раз недавно говорили с ним о возможном очередном совместном проекте. Мы с ним работаем по-разному. Я закладываю много времени на предварительную подготовку, делаю записи – создаю некий контекст. Придя в студию, он слушает практически законченное произведение, воодушевляется им и сразу начинает предлагать свои идеи. У него дар к работе в студии. Я никогда не видел, чтобы кто-то сочинял так быстро. Он молниеносен. Я же работаю достаточно методично. Я тоже могу работать в быстром темпе, но иногда я пишу вещи с партиями для шести-восьми инструментов, или даже больше. Сейчас при работе с ним я помню: если ты написал композицию длиной шесть с половиной минут, столько в итоге она и будет длиться. Он никогда не меняет структуры, поэтому я стараюсь думать об этом заранее. Я размышляю так: «Здесь он захочет что-то спеть, здесь он захочет вставку – пусть будет вставка; тут у него кончатся идеи, поэтому пора заканчивать». Мне нравится, что я могу предсказывать его реакцию. Я не всегда оказываюсь прав, но все равно – сотрудничать с ним для меня одно удовольствие. Он очень быстрый, и мне это нравится. Иногда люди работают слишком медленно, и я не могу столько времени сохранять концентрацию. Я ухожу и потом снова включаюсь в процесс. Если проект очень долгий, я просто оставляю его и возвращаюсь через какое-то время. И когда возвращаюсь, сразу нахожу решения. Когда меня нет постоянно рядом, я могу сфокусироваться на главном. Последнее время я сотрудничал с немецким музыкантом, с которым мы нашли общий язык, – с Питером Швалмом [немецкий диджей]. Ничего подобного ни он, ни я раньше никогда не писали [«Music for Onmyo-Ji» (2000), «Drawn From Life» (2001)]. Эта музыка родилась непосредственно из нашей совместной работы. По-моему, это очень красивая, странная новая музыка. Питер – молодой парень; он вырос в 1970-х на записях Майлза Дэвиса. Обо мне он никогда не слышал. Он не имел представления, кто я такой, что, разумеется, прекрасно. Так вот, он слушал в юности такую музыку, потом пошел в музыкальную школу и учился игре на ударных. Затем он выпустил свою первую запись [«Slop Shop – Makrodelia», 1998], эдакий причудливый новый джаз.
ХУО: В течение интервью вы упомянули многие свои роли – композитора, продюсера, участника совместных проектов, не говоря уж об остальных 30 ролях из списка «Я есть». Но об одной сфере вашей деятельности мы поговорили только вскользь, а именно о визуальном искусстве. В 1979 году прошли ваши первые выставки в Нью-Йорке. Не могли бы вы рассказать об этом?
БИ: Я даже не знаю, как охарактеризовать эту деятельность. Я никогда не относил ее к сфере искусства. В первую очередь потому, что в моих работах не было абсолютно никакого содержания, а в мире британского искусства произведение без содержания не считается за произведение. Мне всегда хотелось создать аналогию поп-музыке в мире визуального искусства. Я помню, как во время выставки в Голландии мне сказали одну из приятнейших вещей в моей жизни. Один человек у меня спросил: «О, это ваша работа?» Я ответил: «Да». И он сказал: «Потрясающе! А кто написал музыку?» Я очень порадовался.
ХУО: Последний вопрос: как бы вы охарактеризовали музыку эмбиент в нынешнее время?
БИ: Сейчас это уже очень широкая категория. Я даже не знаю, как ответить на ваш вопрос, потому что не знаю, что к ней еще не причисляют. Совсем недавно для меня кто-то сыграл нечто под названием «эмбиент треш-метал». Я понимаю, откуда это пошло: раньше я часто сравнивал эмбиент с хеви-металом. Это еще один жанр музыки, который полностью погружает в себя слушателя. На концерте хеви-метала ты не будешь вникать в слова, ты не будешь вслушиваться в гитарное соло. Ты целиком отдаешься звуку и испытываешь невероятные ощущения. Если вы когда-нибудь были на громком концерте тяжелого рока, вы поймете, о чем я говорю. Ты как будто физически испытываешь звук, и в этом я вижу связь с эмбиентом. Если бы мне надо было дать сейчас определение стилю, я бы сказал, что это не повествовательная, а погружающая в себя музыка. На мой взгляд, это единственное, что сейчас объединяет всю эмбиент-музыку.
Родился в 1953 году в г. Ричмонде, штат Вирджиния, США и вырос в Бразилии. Живет и работает в Бразилии.
Арто Линдсей – американский гитарист, певец, продюсер и композитор. В 1970-х он был лидером нью-йоркской ноу-вейв группы «DNA». Из-за его ранней манеры игры на гитаре, которую характеризовали как «экспериментальный примитивизм, доведенный до откровенного шума», Линдсея называют «королем нойза». После распада «DNA» он стал одним из двух участников группы «Ambitious Lovers» вместе с клавишником Питером Шерером. Тогда в музыкальном творчестве Линдсея впервые возникли элементы самбы, и с тех пор его стилю присущ синтез электроакустического авангардного звучания и традиционной бразильской музыки. В качестве сольного исполнителя он выпустил альбомы «O Corpo Sutil (The Subtle Body)» (1996), «Mundo Civilizado» (1996), «Noon Chill» (1997), «Prize» (1999), «Invoke» (2002) и «Salt» (2004). Также он продюсировал записи бразильских музыкантов, в том числе Марисы Монте и Каэтану Велозу. В 2004 году он совместно с художником Мэтью Барни работал над проектом «Da Lama Lamina», фильмом-исследованием о бразильском карнавале. В рамках этого проекта Арто Линдсей одним вечером принял участие в шествии по улицам Сальвадора (Бразилия) вместе с сотней марширующих барабанщиков.
Данное интервью было взято в выставочном пространстве «Utopia Station» во время 50-й Венецианской биеннале в 2003 году. Впервые опубликовано в книге: Hans Ulrich Obrist. Interviews, Volume II. Ed. «Charta Editions», Milan, 2010, P. 580–589.
ХУО: Вы вместе с Мэтью Барни работаете в Бразилии над фильмом [«De Lama Lamina»], который будете снимать во время карнавала.
АЛ: Бразильская толпа знает, что карнавал – это факт их действительности и что он может начаться в любую минуту. Попасть в толпу бразильцев – это уже оказаться на полпути к карнавалу. Толпа всегда может войти в состояние эйфории. Поэтому толпа в Бразилии – это удивительное явление, но в то же время она обескураживает. Толпе не нужна индивидуальность исполнителя, ей нужна только своя целостность как группы.
ХУО: Мэтью сказал, вы примете участие в шествии?
АЛ: Да, и мы собираемся его заснять. Мэтью будет делать DVD, а я – CD. Но это не главное, главное – чтобы нам удалось организовать свое шествие и принять участие в карнавале. Мы собираемся поехать на одной из платформ «блоку афрос» [карнавальные группы африканской тематики] в штате Баиа, чтобы не связываться с карнавальной бюрократией. Мы собираемся снимать детей из одной из таких групп.
ХУО: Кто занимается оформлением платформы?
АЛ: Мэтью. Сейчас у нас возникла идея – и мы не хотим, чтоб о ней прознали конкуренты, – задействовать монстр-трак. Такие машины появились в США, но сейчас уже, наверное, есть по всему свету. Это огромные пикапы с колесами в два раза выше человеческого роста. На них устраивают соревнования на аренах, и на одном таком монстр-траке хотим возвести нашу платформу. У нас еще пара идей – например, два автобуса «фольксваген» – один для басовых частот, другой для высоких. В обоих будет играть одна и та же музыка, только из одного будут доноситься низкие частоты, а из второго – высокие. Во время шествия они неминуемо окажутся оторваны друг от друга, и я сочувствую тем, кто при этом будет идти рядом со вторым.
ХУО: Ваше сотрудничество ведь заключается не просто в том, что вы занимаетесь музыкой, а Мэтью – оформлением?
АЛ: Надеюсь; я не хотел бы, чтоб все было так просто. Это ведь карнавал, и ты никогда не знаешь, что будет, пока на выйдешь на улицу. Еще мы хотели сделать куб и катить его, как колесо, чтоб каждый раз при повороте он издавал какой-то звук. Превратить шествие в музыкальный инструмент! Один мой друг собрал карнавальную группу «Кортежу афро» («Африканский придворный парад») – его зовут Алберту Питта. Он художник и работает в организации под названием «Прожету аше», которая помогает детям с улиц попасть обратно в семьи. У него отличная группа, и им однажды даже помогал Каэтану Велозу. Питта разрабатывает дизайн тканей для карнавальных костюмов. Я все пытаюсь устроить выставку, на которой были бы представлены не только его ткани, но и карнавальные средства передвижения и все, связанное с внутренним устройством карнавала. Такие вещи должны выставляться в музеях.
ХУО: Вы упомянули, что работали с [бразильским художником] Сильдо Мейрелес.
АЛ: Да, я откликнулся на одну из его выставок. Еще у нас был совместный проект с Вито Аккончи, уже достаточно давно. Он назывался «Женское дело» («Women's Business», 1990). Аккончи зачитывал известные феминистские тексты, а я пел знаменитые «женские» песни, например, Билли Холидей. Мы установили инсталляцию нью-йоркском центре «The Kitchen». Аккончи вырезал из дерева огромные фигуры и обтянул их нейлоном. Еще в инсталляцию вошло видео, но я не помню точно его содержание. Кажется, камеры снимали нас с затылков. Также я работал с Норитоши Хирагава для Кунстхалле в Вене [для выставки «Пересечения – Искусство видеть и слышать» / «Crossings – Art to See and to Hear», 1998].
ХУО: Что именно вы делали?
АЛ: Кунстхалле предоставил нам большое пространство, которые мы превратили в святилище. Чтобы войти в него, надо было сдать свое нижнее белье. Мы сделали красивые кабинки для переодевания с зеркалами, чтобы можно было смотреть на себя, пока раздеваешься. Белье складывали у дежурного в картонные ведерки, похожие на коробки из фастфудов. Правда, куратора [Катрин Пихлер] огорчило, что мы не устроили перформанс. Она думала, никто в Вене не станет сдавать свое белье и проект провалится. Но в день приходило по 150 человек, и все сдавали. Реагировали люди удивительным образом. Они получали «духовный» опыт, которого мы не ожидали и не предполагали. Мы подшутили своей выставкой над акционизмом и историей венского искусства деструктивного сексуального перформанса. Она называлась «Suffciently Kinky», «В достаточной мере извращенно» (1998). Я часто принимал участие в совместных проектах. Я намеренно не обучался технике игры на инструментах, поэтому мне приходится с кем-то сотрудничать.
ХУО: Вы соединяете с другими свои знания и навыки?
АЛ: Да, определенно, мы соединяем свои навыки и знания, но я отказался от техники игры не по этой причине. В первую очередь таким образом я заставлял себя концентрироваться на конкретных аспектах, держал себя в форме. Я так и не научился играть на гитаре традиционным способом, поэтому мне постоянно приходилось придумывать обходные пути. В своих работах я всегда отчасти импровизирую – иначе никак, и потому же я сотрудничаю с другими музыкантами. Меня всегда привлекали коллаборативные театральные труппы, такие как «Squat Theatre» или «Wooster Group»; привлекали коллективные работы, например, Уильяма Берроуза и Брайона Гайсина [«Третий ум» / «The Third Mind», 1977]. Совместный труд создает необходимый противовес для индивидуального творчества. Мне интересны многие молодые коллективы, о которых я читал. При этом я стараюсь не сотрудничать со слишком большим количеством людей, иначе никто просто не захочет со мной работать.
ХУО: Когда я беседую с художниками о различных видах совместного творчества, они обычно приводят музыку в качестве примера того, как должно происходить творческое сотрудничество.
АЛ: Чем я занимался самостоятельно, так это продюсированием альбомов других исполнителей, добровольно занимая в их творчестве второстепенную роль. Я помогаю музыкантам делать их собственные записи.
ХУО: Как Брайан Ино[180]. У вас есть свой лейбл?
АЛ: Нет, я работаю независимо. В этом я определенно иду по стопам Брайана Ино. Мне очень повезло, что он продюсировал одну из моих ранних записей.
Я уже давно отказался от формальностей – видимо, это черта моего поколения. Однажды в Нью-Йорке я сотрудничал с группой музыкантов-импровизаторов. Они просто собирались вместе и играли или устраивали концерты, на которых разбивались на группы по два-три человека и импровизировали. Наше поколение (1950–1959 годы) пришлось на время после Дерека Бейли[181], на время свободной импровизации в Англии, которая возникла вслед за фри-джазом 1960-х и имела уже свою историю. Мы заново ввели в контекст импровизации ритм и громкость, и в истории музыки этот момент документально запечатлен. Джон Зорн[182], вероятно, был самой яркой фигурой, и он написал множество произведений для импровизаторов – игровых композиций в духе Маурисио Кагеля[183] и других.
ХУО: Как вы считаете, эти игры просто стирали границы между музыкантами?
АЛ: Они представляли собой скорее свод правил для импровизаторов, где сами импровизаторы определяют условия игры: сколько музыкантов будет играть одновременно, как будут играть – громко или мягко, и другие широкие параметры. Но сами звуки и ноты предопределены заранее. Зорн писал музыку по правилам игр или спорта.
ХУО: Это как-то связано с теорией игр?
АЛ: Я не знаю, насколько сильно Зорн углублялся в теорию игр, но он определенно отталкивался от спорта и близких спорту явлений. В музыке участники очень тесно взаимодействуют друг с другом. Иногда я чувствую, что для совместного творчества нужно отказаться от своей обычной роли. Перед тобой не стоит задача привнести свою индивидуальность. Мне нравятся картины, которые вместе создали в 1980-х Жан-Мишель Баския, Энди Уорхол и Франческо Клементе, хотя некоторые из них слишком напоминают работы каждого в отдельности.
ХУО: В каждой их картине понятно, что именно кто нарисовал, но в случае Питера Фишли и Дэвида Вайса это различить невозможно.
АЛ: Я люблю работы Фишли и Вайса. Они прославились именно в рамках своего дуэта, так что, видимо, мы просто не знаем, как выглядят их индивидуальные стили.
ХУО: Какую из своих совместных работ вы могли бы назвать наиболее удачной?
АЛ: Некоторые альбомы, которые я продюсировал, вышли очень неплохими, и я понимаю, что без меня они такими бы не стали. Кое-какие записи я продюсировал совместно со швейцарцем Питером Шерером, моим партнером в 1980-х. Мы работали над альбомом Каэтану Велозу «Estrangeiro» (1989) и тогда совершенно изменили аранжировки песен и записали их по-новому. Как продюсер, я всегда хотел выжать из музыканта лучшую запись, на какую он способен, а не навязывать ему свой стиль. Но иногда продюсеру нужно просто отойти в сторону.
ХУО: Для кураторов это не менее актуально. Марсель Дюшан тоже говорил Уолтеру Хоппсу «не мешать»[184].
АЛ: Порой бывает полезно противоречить музыканту, заставляя его добиваться своего.
ХУО: Давайте поговорим о ваших проектах, которые по тем или иным причинам так и не увидели свет.
АЛ: Я думаю, я хотел бы создать Gezamtkunstwerk, некую театральную постановку с элементами текста, музыки и танцев. Мне нравится работать в театре, в условиях живого выступления. Еще я хотел бы больше писать эссе и пояснительные тексты. У меня никогда не получалось заставить себя сесть и написать что-то.
ХУО: Мы с вами говорили о книге Каэтану Велозу [«Тропическая правда: История музыки и революции в Бразилии» / «Tropical Truth: A Story of Music and Revolution in Brazil», 2003].
АЛ: У Каэтану Велозу интересная книга. После окончания записи он, бывает, садится и пишет пару критических эссе длиной в страницу о своем альбоме. Я так не умею. У меня нет залежей неопубликованных текстов, но я бы хотел начать над этим работать. У меня другое образование. Сейчас кажется, что творческий человек обязан уметь изъясняться на академическом жаргоне, иначе его не воспримут всерьез. У меня образование несколько романтического толка, и иногда я жалею об этом. Я хотел бы иметь более конкретные навыки, но в колледже изучал литературу…
ХУО: То есть в музыкальном плане вы самоучка?
АЛ: Да, при этом долгое время работал с очень искушенными музыкантами и выражал себя через них. Эта область моего творчества очень разнообразна и переменчива…
ХУО: Как вы перешли от изучения литературы к музыке?
АЛ: Не знаю. Дело, видимо, в моем поколении: я вырос в 1960-х. Плюс, я родом из двух культур, и для меня всегда особый интерес представляли как различия, так и сходства явлений. Многие акцентируют внимание на различиях, а я предпочитаю видеть сходства – между Северной и Южной Америкой, например. Это дало мне путь к пониманию культуры, где бы я ни находился. Я так и не добился особенного успеха, и, как ни смешно, это дало мне свободу работать там, где мне заблагорассудится. Я поехал в Японию. Меня не особенно интересовала Япония до тех пор, пока я впервые там не оказался. Тогда она меня покорила, и теперь я стараюсь возвращаться туда как можно чаще. В Европе мне тоже повезло работать с интереснейшими людьми. Я участвовал в проекте Хайнера Геббельса[185][«Человек в лифте» / «The Man in the Elevator», Франкфурт, 1987].
ХУО: У Хайнера Геббельса воедино сходятся театр и музыка.
АЛ: Я участвовал в проекте, созданном на основе текста Хайнера Мюллера, и мы ездили в турне по всей Германии и Европе. Я был просто членом ансамбля, но мне выпала возможность находиться рядом с Мюллером и другими видными деятелями немецкого театрального мира. Они серьезно подходили к делу и задавали высокие стандарты. А в последние годы меня все больше привлекает Италия, и я стараюсь по возможности работать там. Отсутствие признания в какой-то мере дало мне свободу выбора места для работы.
ХУО: Вы живете вне географии.
АЛ: И таких, как я, все больше и больше. Дети всех тех, кто иммигрировал в Америку, растут в условиях двух культур, и это интересная группа населения – вьетнамцы, индийцы, сенегальцы, корейцы. Я считаю, самоидентификация не должна влиять на работу. Попытки оправдать свое творчество своей культурной средой – это самообман.
ХУО: Ваша деятельность все больше сдвигается в область социолингвистики и мультинатурализма.
АЛ: Я работаю над бразильским изданием журнала «Semiotext(e)» совместно с Сильвером Лотрингером[186] и стараюсь вовлечь своего друга Эрману Вьянна[187]. Он учился у антрополога Эдуардо Вивейроса де Кастро, основоположника мультинатурализма – концепции, сформулированной на материале космологии индейцев Амазонии. Он исследовал теорию самосознания животных, которая заключается в том, что все животные считают себя самыми разумными существами на планете и видят всех остальных со стороны. То есть на свете много самосознательных существ – «натур», которые образуют натуральные системы. Социолингвистика всегда вызывала у меня особенное любопытство. Все говорят, что итальянцы ленивые, а немцы дотошные и тому подобное, но мало кто задумывается, как язык связан с жизнью общества. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь сравнивал, какие слова в разных языках означают еду, или секс, или семью. Но я уверен, кто-то изучает это, и мне было бы крайне интересно почитать его труды. Это ведь в своем роде звуковое искусство. Неужели это никому не приходило в голову?
ХУО: Кажется, будто все забыли об истории звукового искусства.
АЛ: Это точно.
ХУО: Над чем еще вы сейчас работаете? Над новым альбомом?
АЛ: Не своим собственным. Я делаю записи ребят из моей группы.
ХУО: Вы вскользь упомянули, что в вашей группе очень разные литературные предпочтения.
АЛ: Да, Мэлвин Гибс читает серьезные книги. Он углубился в индийскую философию и читает академическую литературу. А Мика Гоуф читает только порно. В туровом автобусе у нас занятная атмосфера чтения. При этом парень, который читает порно, пишет милые легкие поп-песни. В духе Принца. Чудеса, да и только.
ХУО: А что вы сейчас читаете?
АЛ: Я читаю книгу о природе японского вкуса автора Куки Шузо [«Размышления о японском вкусе: природа эстетики Ики» / «Refections on Japanese Taste: The Structure of Iki», 1930 (1997)]. До этого я читал книжку об уроженцах Новой Англии, которые первыми привезли из Японии в Штаты образцы японского промысла. Сейчас они хранятся в крупнейших музеях, вроде Музея Пибоди и Музея Гарднер – оба находятся в Бостоне, который славен крупнейшей в мире (после Японии) коллекцией японского искусства. Еще я читал о японских путешественниках, которые странствовали по миру и рассказывали о японской культуре. Один из них, [Окакура] Тенсин, приехал в Америку, где японский посол, Куки Рюити, попросил его сопровождать его жену в Японию. Жена посла в прошлом была гейшей, и во время плавания у них с Тенсином завязался роман. По слухам, Куки Шузо был сыном Тенсина, но взял имя мужа матери. Он жил в Гейдельберге и учился там у Мартина Хайдеггера. Позже он переехал во Францию и нанял преподавателем Жан-Поля Сартра, которому якобы и рассказал первым про Хайдеггера. У него был дар передавать другим знания. Так родился экзистенциализм! И подумать только – благодаря японцу. Куки Шузо написал книгу о японской культуре XVIII века – о «плывущем мире», культуре борделей и т. д., – и я думаю, он пытался таким образом оправдать свою мать, которую в итоге оставил его отец. Он рассуждает о нравах с аналитической точки зрения.
ХУО: Вас так привлекает японская культура?
АЛ: По крайней мере, книги о Японии. Очень интересно читать литературу, которая очевидно далека даже от языка, на котором ты ее читаешь. При переводе с одного европейского языка на другой многое теряется, но при переводе с китайского или японского потери просто огромные. И гораздо больше пространства для воображения.
ХУО: Сейчас постоянно перекликаются между собой искусство и музыка, наука, архитектура. Все самые значимые события XX века также были отмечены явлениями в литературе, хотя сейчас нам это уже не всегда очевидно.
АЛ: Будут ли они еще отмечены в будущем – я не знаю. Уильям Берроуз – последний крупный писатель моего поколения. Он изменил образ мыслей большого количества людей. Интересно, что Джон Кейдж имел больше влияния как писатель, чем как музыкант. Многие читали его – он очень красиво пишет. В юности его книги произвели на меня большое впечатление.
ХУО: Сегодня ваш концерт для «Utopia Station» состоялся в выставочном пространстве. Вас часто приглашают играть в музеях. Каковы ваши отношения с музеями?
АЛ: Мне нравится, когда музеи проводят хорошо подготовленные выставки, но при этом не разжевывают все для зрителя. Не люблю, когда тебе все подробно расписывают на стенах и не приходится ни о чем думать самому. Если хорошо продумать расположение экспонатов, может, вообще ничего не придется объяснять. Самая невероятная выставка, на какой я был, – это выставка Паулу Херкенхоффа в рамках [24-й] Биеннале в Сан-Паулу [1998]. Я прослезился на ней.
ХУО: Что вас так тронуло?
АЛ: Не знаю. Может, проведенная параллель между антропофагией, лежащей в основе самосознания бразильцев, и сюрреализмом. Музеям нужно научиться избегать излишней формальности и делать выставки живыми, открытыми для зрителя и пластичными. Что касается крупных выставок, то Мэтью [Барни] придумал отличный ход для своей выставки в Музее Гуггенхайма [«The Cremaster Cycle», Нью-Йорк, 2003]: он сделал ее удивительно тихой и просторной. Он очень здраво подошел к количеству выставляемых картин и скульптур.
ХУО: В музеях снова возникла потребность в зонах тишины. Тишины и неспешности.
АЛ: Да, они нам нужны. Музыка и другое сопровождение тоже играют свою роль, но все же произведения искусства требуют тишины вокруг себя.
«Kraftwerk» – электронная группа, основанная Ральфом Хюттером (р. 1946, Крефельд, Германия) и Флорианом Шнайдером (р. 1947, Дюссельдорф, Германия) в 1970 году в постиндустриальном немецком городе Дюссельдорф. «Kraftwerk» среди первых начали работать в жанре электронной музыки и считаются одной из самых значимых и влиятельных групп в своем роде. Творчество группы способствовало росту популярности электронной музыки и оказало влияние на несколько поколений музыкантов разных жанров – поп, рок-, электронной музыки и хип-хопа. Цикличные ритмы, запоминающиеся мелодии и минималистичные тексты в исполнении сгенерированного компьютером голоса формируют характерное звучание «Kraftwerk», революционное для 1970-х и начала 1980-х годов. Их альбомы «Autobahn» (1974), «Trans Europe Express» (1977), «Computer World» (1981), наряду с синглами «We Are the Robots» и «The Model» (оба с альбома «The Man Machine», 1978) приобрели мировую известность.
Концертные выступления группы – крайне ожидаемые события – отражают межжанровый характер ее творчества. На своих шоу, насыщенных театральными и визуальными мульмедийными элементами, «Kraftwerk» создают атмосферу футуристичной вселенной, в которой члены группы предстают в обличье клонов-андроидов в красных рубашках с черными галстуками. По словам Хуттера, «Kraftwerk» – это «человек-машина», вдохновленная окружающими звуками, от металлического лязга индустриальных зон до дыхания и сердцебиения спортсменов. Шоу группы включают импровизацию, которой Ральф Хюттер и Флориан Шнайдер учились еще в конце 1960-х в Академии Роберта Шумана в Дюссельдорфе. В то время они уже заявили о себе на западногерманской артсцене в составе группы «Organization», чей стиль в британской музыкальной прессе окрестили «краут-роком». Звучанию этой экспериментальной рок-группы были характерны повторяющиеся рисунки перкуссии и бас-барабана в сочетании с гитарой, флейтой, скрипкой и органом. После распада группы в 1970 году Ральф Хюттер и Флориан Шнайдер начали работать под названием «Kraftwerk», что означает «электростанция», в их студии «KlingKlang», расположенной на тот момент в Дюссельдорфе. Они жили очень уединенно, отрезав себя от внешнего мира, без телефона или факса, и редко появлялись на публике. Они окружили себя ореолом таинственности, долгое время отказываясь контактировать с прессой. Со временем «KlingKlang» превратилась в передвижную концертную площадку, и в последние годы «Kraftwerk» приглашают выступать на многих фестивалях по всему миру.
В 2012 году была проведена их ретроспективная выставка в нью-йоркском центре современного искусства «MoMA P. S.1».
Состав «Kraftwerk» менялся – Хюттер и Шнайдер работали с полудюжиной разных музыкантов. В настоящий момент группа состоит из Ральфа Хюттера (единственного члена изначального состава), Фрица Хильперта, Хеннинга Шмитца и Штефана Пфаффе.
Данное интервью взято у Ральфа Хюттера в 2004 году после концерта «Kraftwerk» в парижском зале «Гран-Рекс» в рамках тура в поддержку альбома «Tour de France Soundtracks», расширенной версии сингла «Tour de France» (1983), написанного под влиянием увлечения членов группы велосипедным спортом. Впервые опубликовано в журнале «Numéro», Paris, March, 2004, P. 126–131.
Перевод с французского Кэтрин Темерсон.
ХУО: Вас многое связывает с Францией.
К: Верно. Наш первый концерт за пределами Германии и университетских центров искусства состоялся во Франции, в Театре де Л'Эст Паризьен, и был организован журналом «Actuel» в 1973 году.
ХУО: В 1978 году вы дали знаменитый концерт на последнем этаже Башни Монпарнас.
К: Это была вечеринка в стиле «роботов», в честь презентации нашего альбома «The Man Machine»[188]. По шоссе из Дюссельдорфа до Парижа можно доехать всего за четыре часа. Франция к тому же ассоциируется с велосипедным спортом, с «Тур де Франс». У музыки и велосипеда много общего: и то и другое требует движения вперед.
ХУО: До того как стать альбомом, «Tour de France» (1983) был синглом.
К: Я написал текст со своим другом Максимом Шмиттом[189] в 1982–1983 годах. Тогда мы еще планировали делать альбом. Но перед началом «Тур де Франс» мы выпустили сингл и потом переключились на другие проекты, по характеру более близкие электронной поп-музыке. В честь столетия первого «Тур де Франс» и нашего первого концерта с портативными компьютерами в Музыкограде [в Париже] в 2002 году мы решили дописать альбом «Tour de France». «Soundtracks» мы добавили, потому что переработали некоторые идеи, предназначавшиеся для изначального проекта.
ХУО: То есть это саундтрек к велосипедной гонке.
К: Каждый год в июле можно в прямом эфире наблюдать за «Тур де Франс». Разными способами: смотреть воздушную съемку с большой высоты и следить по карте или съемку на месте событий, близко к велосипедистам – этот способ больше подходит для медиаэфира. Мы много ездим на велосипедах и пытаемся сами преодолеть все этапы тура. В 2002 году организаторы предложили нам поехать вслед за туром и следить за его ходом в непосредственной близости. Мы получили невероятные впечатления.
ХУО: Получается, за музыкой стоит ваш личный опыт участия в туре?
К: Именно.
ХУО: В вашем творчестве крайне важна концепция человеческого тела – кажется, вы использовали собственные сердечные ритмы?
К: Да, мы взяли их из своих электрокардиограмм, которые сделали во время подготовки к «Тур де Франс». Мы же не профессиональные велогонщики, просто любители, туристы.
ХУО: В интервью для «Би-би-си»[190] вы сказали, что езда на велосипеде в идеальном варианте беззвучна – никаких лишних звуков, только скольжение.
К: И так же беззвучна музыка. У нас на концертах нет никакой вступительной части. В начале есть только час тишины, когда слышно, как говорят в зале люди. Даже дома я держу лишь маленький CD-проигрыватель. Музыку мы делаем только в студии «KlingKlang» [в Дюссельдорфе].
ХУО: Расскажите, как вы работаете. Такие композиторы, как Штокхаузен, Булез и Бейль, говорили, что для них очень важна студия. В наше время студии носят более мобильный характер.
К: Мы с Флорианом Шнайдером[191] оборудовали нашу студию «KlingKlang» в 1970 году. Там мы основали «Kraftwerk», и там мы работаем вот уже 34 года. Студия – это наш инструмент. Раньше нам требовались очень громоздкие устройства: в наше последнее мировое турне в 1998 году мы возили более шести тонн оборудования. Это нам тяжело обходилось и в техническом, и в финансовом плане. Сейчас у нас маленькие клавиатуры и виртуальные инструменты – так куда проще!
ХУО: В предыдущем интервью вы сравнили «KlingKlang» с электронным садом.
К: Семена надо сажать по весне, летом они впитывают солнечный свет, а осенью пора собирать плоды… со студией так же: это живая среда. В разных городах, в разных концертных залах звук всегда меняется.
ХУО: В начале 1960-х годов много говорили о так называемой постстудийной практике в современном искусстве – о том, что художник теперь всегда работает на ходу. В вашем творчестве переезды тоже играют важную роль.
К: Мы обитаем в мире поп-бизнеса, но не шоу-бизнеса. Нам он чужд. Мы работаем по 168 часов в неделю.
ХУО: Вы начинали в Дюссельдорфе в конце 1960-х, когда в городе бурлила жизнь современного искусства: [Блинки] Палермо, [Герхард] Рихтер, Гилберт и Джордж, [Конрад] Фишер. Вас что-то связывало с ними?
К: В мир музыки нам ход был заказан. Единственными местами, где мы могли играть шесть часов кряду, не имея репертуара, только импровизируя, были выставки современного искусства. Мы регулярно встречали художников на закрытых вечеринках в ночных клубах. Все наши друзья имеют отношение к миру искусства, и мы сами рисуем картины, делаем обложки для пластинок, снимаем клипы. Наш друг Эмиль Шульт учился у Йозефа Бойса[192]. Он создал для нас обложки альбомов «Autobahn», «Radioactivity», «Computer World»…
ХУО: Мы с Арто Линдсеем задались вопросом: когда вы писали «Autobahn», послужили ли вам вдохновением немецкие художники-романтики, например Каспар Давид Фридрих?
К: Несомненно. Мы сами из Рурской области, родины Бетховена. Гармония свойственна этим местам, но чувствуется влияние индустриальной среды и ее звуков, металлического стука, поездов… Индустриализация сказалась на «Alltags Musik» – музыке повседневности, сделала ее жесткой и конкретной. Когда мы начинали, была популярна космическая психоделичная музыка. У «Kraftwerk» музыка более приземленная. ‹…›
ХУО: Ваша музыка получила развитие и в условиях других культур, например в Бразилии.
К: Это здорово. Наши друзья из струнного квартета Баланеску играют композиции «Kraftwerk»[193]. А ведь в начале карьеры перед нами закрылись многие двери, и только мир изобразительного искусства был готов нас принять. Электронная музыка, звук Детройта, нью-йоркский хип-хоп – все уходит корнями к нам.
ХУО: Два года назад ваша инсталляция выставлялась в Музыкограде. Не хотите ли вы открыть постоянную музейную площадку, посвященную «Kraftwerk»?
К: Об этом должны думать не мы. Наша работа – писать музыку. Мы храним наши старые синтезаторы и драм-машины. Флориан многое разработал: старые модели вокодеров[194], первые модели эффекта «Robot Vox» и голосовых синтезаторов. Все собрано в подвале студии «KlingKlang».
ХУО: Недавно вы оцифровали свои архивы.
К: Старые магнитные пленки портятся, поэтому теперь мы храним записи в цифровом формате. Так у нас сохранились оригинальные звуки, которые мы использовали в своих композициях. Например, в «Autobahn» звучит мой старый «фольксваген» 1976 или 1974 года. «Kraftwerk» не стоит на месте и продолжает работу.
ХУО: Недавно Пьер Булез мне сказал, что партитура не имеет конца. Для вас как-то связана бесконечность творческого процесса с партитурой?
К: Мы не работаем с партитурами. Есть записанные звуки, сэмплы, но не на бумаге. Мы как будто создаем электронное граффити, и это требует умения обращаться с техникой на высоком уровне.
ХУО: Какую роль играет научная фантастика в творчестве «Kraftwerk»?
К: Большую. Она – наша повседневная реальность. Для нас это даже не фантастика, а «научные факты».
ХУО: Есть проекты, которые «Kraftwerk» не осуществили или еще только планируют реализовать?
К: Да, и много. Но мы продолжаем двигаться вперед и остаемся открыты для нового. Наши уши – это пары микрофонов. Мы внимательно слушаем и сохраняем оригинальный подход. Есть определенные проекты, которые мы хотим осуществить в туре, а есть и импровизация, более спонтанные вещи.
ХУО: Дюшан сказал, что зритель произведения делает как минимум полработы[195]. Как вы видите роль зрителя?
К: Зритель в то же время и слушатель. Аудиовизуальный наблюдатель.
ХУО: Какое значение вы придаете названиям композиций?
ХУО: В них – концепция, идея-фикс. «Autobahn», «Tour de France» – можно сказать, это программа произведения, его посыл. Название – это как кнопка «Play».
Родился в г. Санту-Амару-да-Пурификасау, штат Баия, Бразилия, в 1942 году. Живет и работает в Баие и Рио-де-Жанейро.
Бразильского певца и музыканта Каэтану Велозу иногда называют «бразильским Бобом Диланом». Его песня 1967 года «Tropicália» и совместный с другими музыкантами альбом-манифест «Tropicália: ou Panis et Circencis» (что значит «хлеба и зрелищ» – отсылка к древнеримской тактике «задабривания» народа едой и развлечениями с целью достижения политической власти над ним) 1968 года положили начало революционному арт-движению Тропикалия, или тропикализм. Основанное Каэтану Велозу и Жилберту Жилом движение выражало в музыке, поэзии и театральном творчестве свой протест против бразильского переворота 1964 года. Движению было присуще сочетание популярных и авангардных тенденций, «каннибализации» бразильских культурных традиций и зарубежных явлений, таких как рок-н-ролл. Некоторые аспекты деятельности движения были слишком провокационными для бразильского общества, с точки зрения и правого, и левого крыла политического спектра, что в итоге в 1969 году привело сначала к аресту, затем к вынужденному изгнанию из страны Каэтану Велозу и Жилберту Жила. Они переехали в Лондон, где жили до 1972 года, продолжая делать записи, заниматься продюсерской деятельностью, выступать и писать музыку. С 1980-х годов Велозу стал набирать известность за пределами Бразилии, в частности, после выхода альбомов «Estrangeiro» (1989), «Circuladô» (1991) и «Fina Estampa» (1994). Каэтану Велозу изучал философию в Федеральном университете штата Баия. В 2002 году его биографический труд «Verdade Tropical» был издан на английском языке под названием «Tropical Truth: A Story of Music And Revolution in Brazil» («Тропическая правда: История музыки и революции в Бразилии»).
Ранее не опубликованное, данное интервью было взято в Лондоне в 2007 году во время тура Велозу в поддержку альбома «cê» (слэнговое слово, означающее «ты», лэйбл «Nonesuch Records», 2006).
ХУО: Вы воплотили так много проектов, что мне интересно, остались ли у вас нереализованные задумки, утопии, мечты?
КВ: Я бы хотел снять больше фильмов. Что касается музыки, тут бы мне хотелось сделать уклон в португальскую культуру, записать альбом фаду[196] или других португальских песен. Еще я планировал сделать запись самбы. Я уже было начал над ней работать, но потом передумал и стал писать рок-н-ролл. Я хотел выпустить «призрачный», анонимный альбом, без моего имени, моего голоса – узнаваемого, по крайней мере, – без моего лица. Я задумал его в шутку и стал параллельно с самбами писать для него песни, правда, в итоге так и не довел до конца. Вместо него из моих набросков выросла другая пластинка: «призрачный» альбом превратился в рок-н-ролльную запись под названием «cê».
ХУО: Вы когда-нибудь раньше делали анонимные записи?
КВ: Нет, никогда.
ХУО: У меня вызвал большой интерес ваш фильм «O Cinema Falado» (1986). Эта необыкновенная лента для многих послужила источником вдохновения. Ее нельзя отнести ни к какому жанру – это и не документальное, и не художественное кино…
КВ: Нет, ни то ни другое.
ХУО: Это новый жанр?
КВ: Можно и так сказать. Я снял его как эксперимент для себя самого. Фильм кажется экспериментальным, но экспериментального в нем только то, что я пробовал себя в новом амплуа. Я как будто спросил у себя: «А могу я снять фильм?» Что ж, надо пробовать. Поначалу я просто хотел высмеять претенциозные «новые» бразильские фильмы, напичканные сентенциями. Я хотел снять фильм, похожий на роман кубинского писателя Кабрера Инфанте «Три грустных тигра» («Tres Tristes Tigres», 1967): хоть это и роман, но он полностью состоит из не связанных между собой монологов в разных стилях. И я решил снять, как люди просто говорят – читают мои любимые отрывки из произведений, написанные мной тексты.
ХУО: Там есть и фрагменты из Томаса Манна, и из Гертруды Стайн, и ваши сочинения. Этакий коллаж.
КВ: Коллаж – не совсем верное слово. Каждый монолог стоит особняком, хоть в них и прослеживаются общие темы, идеи, слова, переклички. Главное – это люди и то, что они говорят. Не декламируют, а именно говорят. При этом ситуации, в которых они находятся, никак не иллюстрируют их слова и не нагнетают драму. Хотя, конечно, некоторые разговоры я все же обыграл. Томаса Манна, например, читают по-немецки. Или в части, где мужчина и женщина разговаривают о кино, они ведут себя, словно герои романтического фильма: по их жестам может показаться, что они выясняют отношения или вроде того, но на самом деле они беседуют о теории и критике кинематографа.
ХУО: Получается, кино же становится предметом разговора.
КВ: Тут есть и скрытый подтекст. «O Cinema Falado» означает «звуковое», «говорящее кино», и так звучит первая строчка знаменитой в Бразилии самбы Ноэля Роза, «Não tem tradução», что значит «Без перевода» (1933). В ней поется, что звуковое кино виновато в переменах в бразильской жизни. Звуковое кино появилось только в конце 1920-х – начале 1930-х, то есть на момент написания песни оно было совсем новым явлением. Отсюда произошло название моего фильма. С приходом звукового кино люди начали без конца говорить, говорить, а танцуют они только для разнообразия. В моем фильме самбу танцуют так, как ее танцевали в маленьких городках Баии, когда я еще был ребенком. В том числе мой друг, бразильский танцор, – он импровизирует в лесу.
ХУО: Ваш фильм стал великолепным открытием. Что бы вы еще хотели снять?
КВ: Мне бы хотелось снять и сюжетное кино тоже. Я снял «O Cinema Falado» в качестве эксперимента, но мне нравятся повествовательные фильмы, в которых есть история.
ХУО: У вас уже есть замысел? Наброски сценария?
КВ: Я много раз начинал писать, но меня смущает то, что каждый шаг в кинематографе занимает уйму времени.
ХУО: И требует денег.
КВ: Я уже говорил некоторым знакомым, что, возможно, режиссер из меня вышел бы более талантливый, чем музыкант, но проблема в том, что я не чувствую в режиссуре своего призвания. А в музыке – чувствую.
ХУО: Оскар Уайльд, кажется, сказал: иногда самая интересная жизнь – это та, которую мы не живем.
КВ: И он был, как всегда, прав.
ХУО: В своей книге «Тропическая правда»[197] вы часто ссылаетесь на Глаубера Роша[198]. По-прежнему ли он вдохновляет вас?
КВ: О да. Он разжег во мне огонь и вдохновил на все, что я когда-либо сделал. Так что он всегда рядом со мной.
ХУО: Вы упоминаете его фильм «Terra em Transe» («Земля в трансе», 1967). Что вас впечатлило в этом фильме?
КВ: Жестокость образов и смелость, с какой он указывал на проблемы популизма в Бразилии, левого в том числе. Благодаря этому фильму мне открылся глубокий критический взгляд на бразильскую жизнь, а также на уровень ее развития по сравнению с остальным миром и то, каким он мог бы или должен был бы быть. Вот что он говорил этими образами.
ХУО: Кто еще повлиял на вас? Кем были ваши кумиры?
КВ: Те, кто сформировал направление моего творчества, большей частью были первопроходцами. Величайшим из них был, конечно, Жуан Жилберту[199]. И все еще остается. Затем Глаубер Роша. Это противоположные личности. Два движения в Бразилии, которые они основали и возглавили, очень контрастны: Жуан Жилберту – босанову, Глаубер Роша – новое кино. Босанова воплотила собой совершенство. Именно так ее охарактеризовал Боб Дилан в стихотворении на обложке своего альбома «Bringing It All Back Home»: «…людям, может, и нравятся нежные бразильские певцы… но я оставил попытки достичь совершенства». В своей автобиографии, вышедшей в 2004 году, Боб Дилан упоминает Жуана Жилберту, Карлоса Лира и Роберто Минескала, трех основателей босановы. Но первым был Жуан Жилберту. Он преобразил популярную музыку Бразилии, и его фигура служила для меня источником вдохновения. Глаубер Роша преобразил кино. Его интересовал как язык популярной музыки, так и язык кинематографа.
ХУО: Ваше движение – тропикализм. Можете рассказать о нем? Вы много о нем писали; в том числе манифесты. Ваши неоавангардные манифесты 1960-х годов, из которых вырос тропикализм, не похожи на авангардные манифесты 1920-х. В 1920-х годах и в Бразилии, и во всем мире авангардные манифесты носили идеологический характер. А в наше время вообще нет никаких движений. Молодые художники, композиторы и музыканты отдалились друг от друга.
КВ: В одном я уверен: когда в середине-конце 1960-х мы начали движение тропикализма, мы чувствовали, что грядет время, когда все отдалятся друг от друга и движения исчезнут. В этом отчасти был посыл тропикализма.
ХУО: Тропикализм в первую очередь связывают с музыкой, но в нем также участвовали художники, такие как Элио Ойтисика и Лиджия Папе, и писатели, например [Аугусто] де Кампос… Движение сплотило разные дисциплины – живопись, литературу, музыку. Что в вашем манифесте их объединило?
КВ: Мы охватили разные дисциплины совершенно спонтанно. У нас даже не было времени об этом задуматься. Один кинематографист сказал мне, что моя новая песня похожа на картину неизвестного мне тогда Элио Ойтисики, которую он видел в Рио. С тех пор он стал называть мою песню «Tropicália», по имени той картины. Но я не видел ни самой картины, ни ее автора и познакомился с ним только позже. Все вышло случайно. Нас объединял общий источник вдохновения. Он непреодолимо притягивал нас друг к другу. Например, я поразился, когда увидел пьесу «O Rei da Vela» режиссера Жозе Селсу Мартинеса Корреа по произведению Освалда де Андраде: я не знал лично Жозе Селсу, но он словно списал свою пьесу с моей новой песни! Я тогда уже закончил работать над записью и готовился к выпуску. Я решил поговорить с ним. Так и было: работы сводили вместе их авторов.
ХУО: Как бы вы охарактеризовали тропикализм сейчас, в 2007 году?
КВ: Я затрудняюсь ответить. В то время явление возникло естественным образом, оно выросло из новых контркультурных и левых веяний. В конце 1960-х годов подобное происходило повсеместно, но в Бразилии движение приобрело свои особенности, потому что Бразилия – огромная и непохожая на другие страна… Огромная в территориальном плане. Она находится в Южном полушарии, в Америке, и за пределами Африки в ней живет самое большое количество чернокожих людей в мире. Наверное, это самая разношерстная по этническому составу населения страна, да еще мы говорим по-португальски. Слишком много специфики. Так что наше движение – рок-н-ролльное, контркультурное, новое левое – было еще именно бразильским. В нем возникла необходимость. В Бразилии были тогда (а может, остаются) все условия для возникновения для такого рода движения. Это неустойчивая, полная социального и экономического неравноправия страна… Однако при всех неурядицах в ней тоже возникло свое видение того, что в остальном мире – развитом, цивилизованном – позже назвали «постмодернизмом».
ХУО: Удивительно! То есть, вы считаете, что ваше движение предвосхитило постмодернизм. Это интересно еще с той точки зрения, что в вашей книге «Тропическая правда» вы говорите о каннибализации прошлого, о поглощении прежних традиций. Можно даже сказать, поп-культуру вы тоже незаметно ассимилировали.
КВ: Верно.
ХУО: В начале XXI века заимствования встречаются на каждом шагу. У меня сложилось ощущение, что тропикализм уже тогда многое заимствовал.
КВ: Да, в своей книге я даже использую термин «сэмпл», «образец». Нам нравилось сэмплировать, давать новое звучание старым аранжировкам и звукам. Мы не стремились придумывать аранжировки с нуля.
ХУО: Еще вы писали, что зарождение тропикализма далось вам тяжело.
КВ: Да, потому что он противоречил нашим пристрастиям. Я рад, что мне удалось преодолеть себя и отказаться от юношеских пристрастий, хотя радость открытия влекла за собой боль от расставания с привычными вещами. Принятие рок-н-ролла, например, для меня означало трансформацию личности, потому что в нашей среде рок-н-ролл не жаловали; мы понимали почему и тоже его недолюбливали. Но потом мы почувствовали нужду в переменах. И процесс изменения оказался болезненным.
ХУО: Вы, как Троянский конь, просочились в тыл врага, вашей противоположности.
КВ: В каком-то смысле да, но мы пошли еще дальше: мы позволили врагу просочиться в наш лагерь. Мы шли двумя путями.
ХУО: Очень интересно, ведь если есть два этих пути, то тропикализм – это Третий путь. Я учился у экономиста Ота Шика. В 1968 году он был «теневым» министром экономики в Праге, когда туда вошли русские войска. Ему пришлось бежать из страны в Швейцарию, где в 1980-х он был профессором моего университета. Он всегда выступал за «Третий путь». Не коммунизм, не капитализм, а Третий путь. Расскажите, как вы видите Третий путь и как ваше видение соотносится с Третьим путем в общепринятом значении?
КВ: Я не хочу видеть его как умеренную политическую позицию между коммунизмом и капитализмом. Его задача – преодолеть и то, и другое. То, что мы называем Третьим путем, всего лишь компромисс. Третий путь поддерживает капитализм и при этом пытается сохранить доверие социалистического крыла. Этого недостаточно. Конечно, мы художники, нам нужны крайности. Но все же суть Третьего пути должна быть шире. На мой взгляд, коммунизм очень опасен, ведь он, к примеру, служил опорой для иерархической диктаторской системы в России – от царя до Ленина и Сталина, а от них до Путина. Коммунизм иногда требует здоровой агрессии.
ХУО: Получается, тропикализм – не коммунистическое движение?
КВ: Нет, он не был коммунистическим движением, и коммунисты, очевидно, нас не поддерживали. Но все же коммунизм был нам ближе правого крыла. Они нам нравились, а мы им нет. Я думаю, нам стоило более конкретно обозначить свою позицию против коммунистического угнетения. Что касается капитализма, то ему уже тоже место в прошлом. На замену ему должен прийти не коммунизм, но что-то совершенно особое. Не знаю, что именно, но возникнуть оно должно… естественным образом.
ХУО: Ваш друг Жилберту Жил[200] теперь министр культуры. Какое отношение вы имеете к политике? Какова роль политики для вас?
КВ: Я считаю, политика играет в нашей жизни очень важную роль, и нужно следить за ней, но лично у меня нет склонности профессионально ей заниматься. Мне жаль, что такая склонность оказалась у Жила, но раз уж он доволен, то я рад за него. Мы все еще работаем вместе. Мы по-прежнему друзья, он прекрасный человек, и я люблю его, но я не люблю связываться с профессиональной политикой. Я пишу о политике, но это уже совсем другое.
ХУО: Мы еще не начали с вами беседовать о вашей писательской деятельности. В прошлом году я брал интервью у Арто Линдсея[201], и он сказал: «Меня поражает Велозу. После окончания записи он иногда садится и пишет критические эссе о своем альбоме». Некоторые ваши сочинения действительно содержат критику ваших альбомов, которая ведет к анализу последующих работ, некоторые – о политике, некоторые – о коллегах, их письменные портреты. Скажите, какую роль литературная деятельность играет в вашем творчестве?
КВ: Я люблю писать, потому что я люблю слова. Мне, к примеру, не нравится перевод «Тропической правды» на английский язык. Я люблю ее в оригинале, такой, какой я ее написал. Она куда красивее на португальском. Мне нравится писать, я люблю ритм, люблю, как рождаются идеи, люблю ясность.
ХУО: На английском, однако, ваша книга тоже очень хороша, очень насыщена идеями. Вас многое связывает с поэтами. Аугусто де Кампос[202] и его брат [Арольдо де Кампос] – ваши друзья[203]. В интервью[204]Аугусто рассказал мне о журнале «Ноигандрес» («Noigandres»), который он издавал в 1952 году, и о том, как идея «неоавангарда», родившаяся из экспериментов 1920-х годов, развилась около 1952 года.
КВ: Да, мы познакомились с Августо в 1968 году и по-прежнему остаемся друзьями. Он очень развитый в культурном плане человек, крайне вежливый, и прекрасный поэт. Я еще ничего не знал о нем, когда он написал статью о моей музыке и моих заявлениях. Еще до тропикализма. В самом деле, его можно назвать пророком тропикализма. Он предвидел его. Он начал писать о нем и его основных позициях еще до того, как мы их обнародовали. Он исключительный человек, очень чувствительный и в то же время бескомпромиссный. Он – идеальный образец авангардного писателя. Он прошел через влияние символизма, особенно Малларме. Символизму свойственна отстраненность, но вместе с тем и точность. В нужный момент символизм может стать очень конкретным, очень насущным.
ХУО: Особенную роль для него сыграла фигура Фредерико Гарсии Лорки[205].
КВ: Фредерико Гарсия Лорка – невероятный поэт. Аугусто де Кампос любил его.
ХУО: На вас он тоже повлиял?
КВ: Несомненно. Еще до встречи с Аугусто. Я всегда был и остаюсь огромным поклонником поэзии Лорки.
ХУО: Мы еще не говорили с вами об изобразительном искусстве. Аугусто де Кампос рассказывал мне, что в 1960-х годах в Бразилии все сферы искусства – литература, живопись, музыка, архитектура – искали новые средства выражения. Лиджия Кларк, Лиджия Папе, Ойтисика – все неоконкретное движение стремилось заговорить на новом языке. Есть замечательные фотографии вас в подвижных скульптурах Ойтисики, «Parangolés» [«обитаемые картины»; их нужно было надевать на себя и танцевать под ритмы самбы]. Какие отношения вас связывали с Ойтисикой?
КВ: Мы были друзьями. Все эти люди занимались очень близкими нам вещами. Мы словно узнали друг друга. В юности я мечтал стать художником. Я много рисовал, карандашами и красками. Я родился в Санту-Амару, маленьком городке в Баие. Переехав в Сальвадор, я оказался среди творческих людей – художников, писателей. Я уже тогда хотел снимать фильмы, но не думал об этом всерьез – в Баие мы даже не думали о своем кино. А потом появился Глаубер, этот сумасброд родом из Баии, и взял и снял свой фильм. Но для меня кинематограф оставался далек, поэтому я жил среди художников и рисовал.
ХУО: Сохранились ли ваши ранние картины?
КВ: Да. Я влюбился в абстракционизм. У меня была подруга, художница Соня Кастро, которая тогда тоже увлеклась абстракционизмом – абстрактным экспрессионизмом, если точнее, – и я влюбился в него. До этого я рисовал просто дома, улицы, людей, лодки. Когда я открыл для себя современную абстракцию, мне показалось, что вот она – истинная живопись, задача которой не отражать вещи такими, какие они есть, а быть картиной, совокупностью красок, чувства, чернил или любого другого материала, цвета и формы. Живопись напоминала мне музыку. Чтобы что-то сказать, необязательно быть буквальным. Я влюбился. Меня смущало одно: эти холсты предназначены для того, чтоб их купил какой-нибудь буржуа и повесил себе на стену, и такие профессиональные перспективы меня не радовали.
ХУО: В то время как музыка открыта для всех.
КВ: Музыка – популярная в первую очередь – близка каждому, особенно в Бразилии. Жуан Жилберту, будучи великим артистом, писал популярную музыку, и его знали все. Я не мог устоять против такой силы, но музыкантом я становиться не хотел.
ХУО: Вы сказали, музыка выбрала вас.
КВ: Верно. Музыка выбрала меня, заставив почувствовать ее силу! В музыке для меня происходило все самое важное. Я не предполагал, что смогу ее писать; я думал, мне суждено ей восхищаться, быть с ней рядом, любить ее, но никак не делать. И все же в итоге музыка настигла меня, и я стал музыкантом.
ХУО: Интересно, что художники вашего поколения – Ойтисика, а также Лиджия Кларк и Лиджия Папе – тоже ушли от буржуазной традиции живописи как объекта на стене.
КВ: Решительно ушли.
ХУО: В этом отношении они от вас были недалеки.
КВ: Несомненно, но я их тогда еще не знал. Кажется, я писал в своей книге, как моя подруга Соня Кастро увидела одну работу Лиджии Кларк и потом рассказала мне: «Не знаю, вроде это был просто камень на пластиковом пакете, наполненном водой. Я не поняла, искусство это или что». У меня в голове прозвонил звоночек, хоть я сам работы не видел. Увидел я ее только позже, когда приехал в Рио и встретил Элио. Тогда мне уже открылся взгляд изнутри. Сначала я познакомился с Элио, потом с его работами, а через него – с работами Лиджии. Для меня раскрылся новый мир, совершенно свободный от буржуазной потребительской системы.
ХУО: Особое значение для этих художников играло участие зрителя. Марсель Дюшан сказал, что зритель делает половину работы[206], а в случае Ойтисики, Лиджии Кларк и Лиджии Папе я бы сказал, зритель делает как минимумполовину. Какова роль зрителя, или слушателя, в отношении вашей музыки? Приходится ли ему делать пятьдесят процентов работы?
КВ: Как минимум. Представьте, люди не только слушают песни, но и поют их! В их исполнении песня может стать такой, какой ты ее не мог себе представить.
ХУО: А вы печатаете партитуры, чтобы подогреть их интерес? Очевидно, партитура – это достаточно жесткая нотация произведения, поэтому Джон Кейдж, к примеру, изобрел открытые партитуры. Как вы сами работаете с партитурами?
КВ: Никак, я не умею читать с листа.
ХУО: То есть вы считаете, партитура – устаревшее явление?
КВ: Нет, я так не считаю, я просто вообще о ней не думаю.
ХУО: Ойтисику несомненно вдохновлял образ города, и жизнь в фавелах многому его научила. Какую роль играл город в вашем творчестве?
КВ: Огромную. Мне очень нравится даже португальское слово «cidade», «город». Многие мои песни – о конкретных городах. Тот факт, что Ойтисика был родом из фавелы Мангейра [в Рио-де-Жанейро], для меня имел огромное значение, потому что самбы Мангейры я любил с детства. К моему восхищению, он умел танцевать самбу, как лучшие танцоры Мангейры. Я обожаю современный фанк фавел Рио и считаю, что это очень важное явление. ‹…›
ХУО: Когда я был в Бразилии, архитектор Стефано Боэри рассказал мне о мутации городов и том, что бразильские города сильнее всех пострадали от мутации. Городское пространство в Бразилии изобилует крайностями. Как городская эволюция влияет на вашу работу или, может, вдохновляет вас?
КВ: Влияет сильно. Подумать только о Сальвадоре и Санту-Амару, которые полностью преобразились. Раньше это были красивые города, а теперь – одно уродство. Бразильские города крайне… хаотичны в архитектурном плане. Иногда это вгоняет в тоску, потому что кажется, что они не мутируют, а деградируют. В Рио, например, архитектура совершенно беспорядочная, к тому же жизнь социума теперь совсем другая, общество разделилось… Невольно станешь пессимистом. Но образ города остается жизненно важен. Я не знаю почему, но иногда нас одолевает ностальгия по гармоничным европейским городам колониального периода, которые затем исчезли. Вместе с тем бывает, когда я подолгу живу в Европе, а потом возвращаюсь в Бразилию, к ее хаосу, ее архитектоническому, архитектурному хаосу, я чувствую глоток живительного воздуха. Но все равно ощущаю деградацию.
ХУО: Все зависит от настроения и перспективы.
КВ: Да. Если мы можем построить светлое будущее, то все хорошо.
ХУО: Какой ваш любимый город?
КВ: Сальвадор. Я родился в маленьком городке неподалеку от него, но в конце 1940-х казалось, что это огромное расстояние. Мы ездили на поезде, и дорога занимала много часов. Сейчас это меньше часа пути на машине. Сальвадор был первым большим городом, который я увидел в детстве. Это столица штата Баия, а в колониальные времена он был столицей всей Бразилии. Большинство чернокожего населения страны живет именно там, и там же сосредоточены африкано-бразильские религии. В Сальвадоре самое богатое архитектурное наследство Бразилии – наследство колониальной архитектуры. Благодаря всему этому Сальвадор со стороны пляжей остается очаровательным городом. Он все еще служит мне вдохновением.
ХУО: Арто [Линдсей] рассказывал, что для вас важны карнавалы[207]: сама идея того, что они могут начаться в любой момент, и их неповторимая эйфория.
КВ: Факт в том, что я люблю карнавалы, особенно в Баие. Карнавалы в Баие перекликаются с тропикализмом – в них много от рок-н-ролла, хеви-метала, прогрессивной музыки и… глэма.
ХУО: Отличная смесь.
КВ: Да. Из этой смеси возник новый коммерческий феномен песен карнавала Баии, которые презирают критики, пресса и самопровозглашенная интеллектуальная элита Бразилии. Но мне они нравятся. Мне нравится весь этот жанр. Сочетание этих трех стилей может показаться пошлым или банальным. Но таким был и Элвис!
ХУО: Тут хотелось бы упомянуть ваш альбом «Estrangeiro» («Иностранец», 1989), который продюсировал Арто.
КВ: Они продюсировали его вместе с Питером Шерером. Часть его была записана в Нью-Йорке, часть в Рио, а сводили и делали мастеринг мы снова в Нью-Йорке. Питер Шерер делает с клавишами чудеса. Клавишные 1980-х тогда уже немного устарели, но Питер придал их звучанию нестареющий шик.
ХУО: Что связывает этот альбом с записью 2004 года «A Foreign Sound», для которого вы позаимствовали американские мотивы?
КВ: Я просто перепел разные американские песни – от Ирвина Берлина до «Nirvana». Разброс вышел немаленький, и никому альбом особенно не понравился. В Америке он успеха не имел.
ХУО: Как вы думаете, есть что-то общее между тем, как бразильский карнавал ассимилирует иностранные влияния, и тем, как вы ассимилируете американские песни?
КВ: Параллель, конечно, можно провести, но у моего творчества мало общего с музыкальной индустрией карнавала в Баие. У меня есть одна похожая по стилю песня – «A Luz de Tieta» (1997). Я в ней как раз косвенно намекаю на их музыку.
ХУО: Мы еще не говорили об альбоме «Domingo» [совместный с Гал Коста, студия «Philips», 1967]. В изобразительном искусстве часто бывает, что в первой картине есть все, что художник может сделать в будущем. Было ли все уже в «Domingo»?
КВ: На «Domingo» есть одна песня, «Coração Vagabundo», которую я сочинил в 1963 или 1964 году, – она по-прежнему одна из моих любимых. Как я написал в аннотации, параллельно с записью пластинки я начал писать песни в духе тропикализма, но в альбом вошли только мои старые композиции. Я сочинял в то время новые вещи, совсем другого толка. То есть во время записи я уже был тропикалистом. Все уже началось тогда. Тем не менее на альбоме нет «тропикалистских» песен – в основном, на нем песни, похожие на босанову. Почти что босанова, но не совсем. Мне очень нравится этот альбом. Мне нравится, как спела Гал – практически везде, но особенно в «Candeias» Эду Лобо, а мой голос мне нравится в «Coração Vagabundo» и «Um Dia».
ХУО: Смогли бы вы перечислить альбомы, которые вам наиболее близки и дороги?
КВ: Это очень сложно.
ХУО: То есть нельзя сказать, что какой-то один альбом стал переломным?
КВ: Нет. Взять мой первый «тропикалистский» альбом – альбом, в который вошла песня «Tropicália» [«Caetano Veloso», студия «Philips», 1967]. Он звучит грязно. На мой взгляд, я паршиво исполнил свои партии. Отлично сыграла группа «Os Mutantes» в последней песне [«Hino Do Senhor Do Bonfm»] и другие музыканты. Хулио Медаглия[208] сделал для «Tropicália» прекрасную аранжировку. Нельзя не признать, что «Tropicália» – это песня исторического…
ХУО: Исторического значения.
КВ: Да, но это не значит, что она мне нравится. Мне нравится, как Гал исполнила эту песню спустя более 20 лет, со своей группой на концерте на арене «Canecão». В начале 1990-х она записала ее для меня, и это единственный вариант, в каком я люблю эту песню. Мне нравится аранжировка Хулио Медаглии, но пою я ее плохо. Мне нравится интерпретация Гал. Об этой записи никто не знает, но она моя любимая.
ХУО: Мы не поговорили еще о вашей очень уважаемой в мире кинематографа записи – о замечательной песне «Cucurrucucú Paloma», написанной для фильма Альмодовара [«Поговори с ней», 2002]. Скажите, как родилось ваше сотрудничество?
КВ: Педро услышал ее запись на альбоме «Fina Estampa (Live)» [лейбл «Universal Music Ltd.», 1994]. Я пел ее со струнным оркестром. Она понравилась ему, и он сказал: «Я хочу использовать ее в своем фильме». Фильм назывался «Цветок моей тайны» (1995). Я согласился, и он получил официальное разрешение от продюсеров. Педро тогда заканчивал съемки в Мадриде, а я был в Бразилии. Тут мне позвонил один друг и сказал: «Каэтану, я был на Каннском кинофестивале и увидел китайский фильм, в котором целиком прозвучала “Cucurrucucú Paloma”, которую Педро хотел использовать в своем фильме». Я об этом ничего не знал. Это был фильм режиссера Вонга Карвая о двух влюбленных из Аргентины, «Счастливы вместе» (1997). Они едут к бразильской границе, к водопаду Игуасу, и вот они там, они целуются, появляется водопад – и от начала до конца играет моя запись «Cucurrucucú Paloma». Они даже не попросили разрешения. Я был возмущен. В итоге Педро заменил ее на другую мою венесуэльскую песню, которая по-испански называлась «Tonada de Luna Llena». Спустя несколько лет, когда он снимал «Поговори с ней», он позвонил мне и сказал: «Я все-таки хочу заполучить “Cucurrucucú Paloma”. На этот раз я хочу, чтоб ты спел ее, и я сниму, как ты ее поешь». Так и вышло. История с Вонгом Карваем вышла занятная, потому что где-то через год я приехал с концертом в Токио, и во время интервью японским журналистам ко мне подошла группа азиатов – японцев и китайцев. Они были как-то причастны к съемкам фильма Карвая. Они подарили мне букет цветов и извинились, а журналист мне сказал: «Китайцы – они такие».
Автор хотел бы выразить признательность Ку-Джонгу А, Шумону Басару, Стефано Боэри, Мэтью Коупленду, Изабель Дьегис, Кериту Вин Эвансу, Марсии Фортес, Полю Арману Жетту, Джозефу Грима, Расселу Хасуэллу, Шарлю Арсену Анри, Рему Колхасу, Николе Лис, Карен Марта, Густаву Мецгеру, Изабеле Мора, Изабелле ди Нунно, Филиппу Паррено, Джулии Пейтон-Джонс, Лючии Пьетроиусти, Алексу Путсу, Израэлю Розенфельду, Сьюзан Стенджер, Салли Таллант, Кэтрин Темерсон и Йохену Вольцу.
Издатель также благодарит за содействие Фрэнсиса Бодевина.
Шри Ауробиндо (1872–1950) – индийский йог, философ, поэт, участник индийского движения за независимость. Создал учение об интегральной йоге, процессе единения всей сущности, и материи, и духа, с Высшим разумом. Главный литературный труд – философский опус «Жизнь Божественная», сборник текстов, датируемых примерно 1900 годом (издан обществом «Ашрам Шри Ауробиндо»).
«Формульная композиция» и «суперформульная композиция» – техники, возникшие из более ранних серийных техник Штокхаузена. Формула заключается в узнаваемой мелодической структуре, которая составляет ядро композиции и часто звучит в ее начале. Затем она изменяется, развивается и вырастает в целую композицию.
Штокхаузен был важной фигурой в так называемой дармштадтской школе, основанной композиторами – участниками Международных летних курсов новой музыки в Дармштадте в период с начала 1950-х до начала 1960-х годов. Штокхаузен был одним из многих выдающихся лекторов на этих курсах. Международные летние курсы новой музыки в Дармштадте (Internationale Ferienkurse für Neue Musik), основанные вскоре после окончания Второй мировой войны, стали местом встреч композиторов, исполнителей, музыкантов, представителей саунд-арта и студентов музыкальных училищ.
Франк Мартин – швейцарский музыкант и композитор (1890–1974), в последние три года Второй мировой войны написавший «Голгофу», ораторию для пяти солистов-вокалистов, хора, органа и оркестра, вдохновленную «Страстями по Матфею» Баха.
Студия французского теле- и радиовещания «D'Essai» была основана Пьером Шеффером в 1942 году и в 1946 году переименована в «Club d'Essai».
Тембр – характеристика музыкальной ноты, которой отличаются источники звука, то есть голоса или музыкальные инструменты: струнные, духовые, перкуссия. Тембр создает разницу между звуком одного инструмента и другого при одинаковой высоте и громкости ноты. Тембр формируется из-за разных частот, и при помощи аудиофильтров эти частоты можно усилить или ослабить, что повлияет на тембр и, соответственно, на звучание.
Фриц Борнеманн (1912–2007) – немецкий архитектор, имел большое влияние в Берлине в 1950-х–1960-х годах. Известен проектами бетонной архитектуры, в частности зданий современных театров. Среди его работ – Американская мемориальная библиотека, Немецкая опера в Берлине, театр «Freie Volksbühne» («Театр свободного народа») и музейный центр Берлин-Далем. Он спроектировал павильон Германии для Всемирной выставки в Осаке в 1970 году, первым разместив выставочную зону под землей, тем самым отказавшись от широких архитектурных жестов.
Спроектированный на основе художественного замысла Штокхаузена и технической концепции Студии электронной музыки Технического университета Берлина, Сферический концертный зал стал первым в своем роде. Это была временная конструкция, в которой зрителям представили современные тенденции электронной музыки от таких композиторов, как Бернд Алоис Циммерман, Борис Блахер и Штокхаузен (а именно композицию «Спираль», которая в течение выставки была исполнена 1300 раз). Места для аудитории располагались на звукопроницаемой сетке чуть ниже центра сферы. Звук электроакустических композиций распространялся в трех измерениях из 50 групп динамиков, расположенных по всему пространству сферы. Штокхаузен добился трехмерного живого звучания благодаря изобретенной им десятиканальной вращающейся мельнице и сферическому сенсору, собранному в Берлине.
Здесь Ханс Ульрих Обрист ссылается на «Fresco. Wandklänge zur Meditation» («Фреско. Звуки стен для медитации»), композицию для оркестра, написанную Штокхаузеном в качестве «музыки для фойе» («Wandelmusik») для ретроспективной программы, на которой в течение вечера музыку Штокхаузена исполняли одновременно в трех помещениях Зала Бетховена в Бонне. Композиция длится около 5 часов.
Виллем Сандберг (1897–1984) был куратором и директором Городского музея Амстердама до 1962 года. Он организовал выставку работ Мари Бауэрмайстер, параллельно с которой в течение дня Штокхаузен дирижировал исполнением своей электронной музыки (2-25 июня 1962).
Хейнц фон Ферстер (1911–2002) работал с Норбертом Винером над развитием кибернетики. Норберт Винер, основоположник кибернетики, также одним из первых начал исследовать стохастические процессы и шум.
Виктор фон Вайцзеккер (1886–1957) – немецкий биолог и автор первых теорий медицинской антропологии и психосоматический медицины, в частности, он ввел понятие «Gestaltkreis» («круг формы», 1933). Он развил концепцию органической материи, на корню расходившуюся с принятыми в то время представлениями о физиологии и биологии. Он предположил, что на органические процессы влияет среда, в которой народится организм, поэтому при их оценке необходимо учитывать пространственные и временные условия.
В апреле 1957 года на Конвенции Американской федерации искусства (Хьюстон, штат Техас) Марсель Дюшан зачитал свой доклад «Творческий процесс» / «Creative Act», в котором высказал свою точку зрения о том, что «в творческом процессе участвует не только автор; произведение соприкасается с внешним миром через зрителя, который расшифровывает его, истолковывает его внутреннее содержание и, таким образом, вносит свой вклад в творческий процесс». В 1958 году в сочинении «Duchamp du Signe» Марсель Дюшан развил эту мысль и пришел к выводу, что «картину создает зритель» (см.: М. Duchamp. Duchamp du Signe. Ed. «Flammarion», Paris, 1975). Здесь Ханс Ульрих Обрист объединяет эту популярную концепцию с заявлением художницы Доминик Гонсалес-Ферстер, по-своему интерпретировавшей работы Дюшана.
Петр Зиновьев – британский изобретатель, основатель Студии электронной музыки в Лондоне и создатель портативного синтезатора «VCS3» (1969). См. интервью в этой книге, стр. 138.
Оскар Сала (1910–2002) – немецкий физик и композитор, работавший с траутониумом, монофоническим электронным музыкальным инструментом, который создал Фридрих Траутвайн в Берлине примерно в 1929 году. Этот инструмент считается предшественником синтезатора.
Термин, введенный композитором Рихардом Вагнером в середине XIX века. Этим понятием Вагнер стремился описать «искусство будущего», которое виделось ему как синтез, объединение всех видов искусств. (Прим. пер.)
Гае Ауленти (1927–2012) в послевоенной Италии была одной из немногих женщин-архитекторов и художников-оформителей. Она известна проектами по оформлению интерьера, в том числе Музея д'Орсе и Галереи современного искусства в центре Помпиду в Париже, а также дворца Палаццо Грасси в Венеции и, среди недавних работ, Музея азиатского искусства в Сан-Франциско. В 1991 году Японская ассоциация искусства наградила ее Императорской премией. Среди ее проектов как театрального декоратора известна работа над оперой «Четверг» из цикла «Свет» Штокхаузена, чья премьера состоялась в 1981 году в миланском Дворце спорта в постановке труппы театра Ла Скала.
Мария Бьорнсон (1949–2002) известная художница по костюмам и декорациям для театра, оперы и балета, обладательница множества премий. Всемирное признание получила, в частности, благодаря своей работе над мюзиклом «Призрак оперы». Она создала оформление сцены для оперы «Четверг» из цикла «Свет» Штокхаузена в 1985 году в лондонском театре Ковент-Гарден.
Надя Буланже (1887–1979) – французская пианистка, органистка и дирижер; в XX веке считалась влиятельным преподавателем композиторского мастерства. Она известна тем, что прививала своим ученикам принципы неоклассицизма – подчеркнутую логику, упорядоченность и баланс произведений, – основываясь на своем видении музыки Стравинского. Среди 1200 ее учеников были Эллиот Картер, Аарон Копленд и Филип Гласс.
Конлон Нэнкэрроу (1912–1997) – мексикано-американский музыкант и композитор. Написал около 50 этюдов для механического пианино. После возвращения с испанской гражданской войны, в которой он воевал против Франко, Нэнкэрроу стал участником нью-йоркской музыкальной сцены и в 1939 году познакомился с Эллиотом Картером. Их объединял интерес к экспериментам с ритмом и рационализации длительностей и темпа. Больше информации об их переписке в статье Драганы Стоянович-Новичич: The Carter-Nancarrow Correspondence / American Music. Illinois. 29.1 (2011). P. 64–84.
Книга была опубликована в 2008 году: Felix Meyer & Anne C. Shreffer. Elliott Carter: A Centennial Portrait in Letters and Documents. Paul Sacher Foundation. Ed. «Boydell Press», Woodbridge, Suffolk. 2008.
Дэвид Тюдор (1926–1996) – американский пианист и композитор экспериментальной и электронной музыки. Исполнял фортепианные партии авангардных произведений Пьера Булеза, Штокхаузена, Ла Монте Янга и других и позже писал музыку для соратника Джона Кейджа Мерса Каннингема и его труппы. В 1950–1960-х годах Тюдор тесно сотрудничал с Джоном Кейджем и исполнял его произведения, в частности «Музыку перемен», «Концерт для фортепиано и оркестра» и знаменитую «4′33″» (1952). При исполнении Тюдор сочетал звучание фортепиано с электронными звуками посредством усилителей («Вариации № 2», 1969). При помощи микрофонов, усилителей, автомобильных «габаритных усов», барабанов от фонографа и других предметов он превращал фортепиано в электронный аппарат. Из-за сложности устройства поведение инструмента и его звук были непредсказуемы.
Аарон Копленд (1900–1990) – американский композитор, ученик Нади Буланже. Ранние работы написаны в духе модернизма и под влиянием джаза; позже, во время Великой депрессии, его творчество эволюционировало. В 1930-1940-х годах он в основном писал оркестровую музыку и балеты («Фанфары для простого человека», «Аппалачская весна», «Родео»). За мотивы фольклора американского Запада и элементы латиноамериканской музыки работы Копленда часто называли популистскими; сам он свой стиль характеризовал как «коренной». Открытые, медленно сменяющиеся гармонии многих его работ относят к типично американскому звучанию, вызывающему ассоциации с бескрайними американскими равнинами и духом первопроходцев.
Чарльз Айвз (1874–1954) – американский композитор. Долгое время не был известен, после чего в 1920-х годах он стал заметной фигурой нью-йоркского авангарда наряду с Эллиотом Картером, Генри Коуэллом и Аароном Коплендом. В 1946 году он был награжден Пулитцеровской премией в области музыки за «Симфонию № 3», написанную в 1909 году. Его работы, в которых сосуществуют цитаты из популярных мелодий, песен возрождения, танцевальной народной и классической европейской музыки, представляют собой произведения необычайной сложности, изобилующие резкими диссонансами, политональными гармониями и полиметрическими конструкциями. Также Айвз экспериментировал с элементом случайности в музыке, к примеру оставляя какую-то часть композиции на импровизацию музыканта.
Пауль Хиндемит (1895–1963) – музыкант, дирижер немецкого происхождения и один из главных композиторов неоклассицизма. Его стиль заметно отличался от работ Игоря Стравинского («Kammermusik» / «Камерная музыка», 1921–1927; опера «Mathis der Maler» / «Художник Матисс», 1938). Первым переосмыслил понятия консонансов и диссонансов.
В апреле 1957 года на Конвенции Американской федерации искусства (Хьюстон, штат Техас) Марсель Дюшан зачитал свой доклад «Творческий процесс» / «Creative Act», в котором высказал свою точку зрения о том, что «в творческом процессе участвует не только автор; произведение соприкасается с внешним миром через зрителя, который расшифровывает его, истолковывает его внутреннее содержание и, таким образом, вносит свой вклад в творческий процесс». В 1958 году в сочинении «Duchamp du Signe» Марсель Дюшан развил эту мысль и пришел к выводу, что «картину создает зритель» (см.: М. Duchamp. Duchamp du Signe. Ed. «Flammarion», Paris, 1975). Здесь Ханс Ульрих Обрист объединяет эту популярную концепцию с заявлением художницы Доминик Гонсалес-Ферстер, по-своему интерпретировавшей работы Дюшана.
Арнольд Шенберг – австрийско-американский композитор, изобрел атональную, или 12-тоновую, технику композиции. Она заключалась в использовании принципиально новой тональной базы музыкального произведения. Вместо двух или трех тонов, составляющих основу композиции, Шенберг предложил использовать все 12 тонов. В отличие от тональной, эта техника не предусматривала доминирования в композиции отдельных нот. Объединяющую основу произведения составляла последовательность чередования 12 тонов, варьирующаяся в разных композициях.
Милтон Бэббитт – один из членов-основателей Центра электронной музыки Коламбия-Принстон (Columbia-Princeton Electronic Music Center), где он в 1964 году написал «Philomel» / «Филомелу», одно из первых произведений для синтезатора. Композиция совмещала живое исполнение вокалиста- сопрано и воспроизведение записанной и модулированной вокальной партии. Подчеркивая сходство слов и музыкальных звуков, произведение проводило параллель между музыкой и языком.
Пьер Шеффер (1910–1995) – французский композитор и инженер по электронике. Считается основателем конкретной музыки – авангардной электроакустической техники композиции, при которой основу произведения составляли записи звуков естественного происхождения. Он разработал эту технику примерно в 1948 году совместно со Студией радиовещания «Studio d'Essai».
«Bell Labs», или «Bell Laboratories» – созданный в 1925 году центр инновационных исследований и разработок, известный множеством изобретений в сфере телекоммуникаций и информационных технологий (радио астрономия, транзистор, Unix, C+ и т. д.). Макс Мэтьюс, инженер «Bell Labs», первым разработал технологию электронной генерации звука при помощи компьютерной программы MUSIC. Он же создал первое сгенерированное на компьютере произведение – «Silver Scale» (1957), 17-секундную композицию, написанную Ньюманом Гуттманом.
Высота – свойство звука, характеризующее его по шкале от низких к высоким. Это одна из основных характеристик музыкальных звуков наряду с длительностью, громкостью и тембром.
«Domus», Milan, 2004. P. 66–71. № 876.
Франсуа Делаланде был инженером и лектором по математике в университете; в 1970 году стал руководителем исследований музыкальных наук в Группе музыкальных исследований (Groupe de Recherches Musicales [GRM]) в INA (Национальный аудиовизуальный институт). Основным предметом его исследований была электроакустическая музыка, эпистемология музыкального анализа, написание музыки и особенности слухового восприятия, в частности детского. Из основных публикаций: Il faut être constamment un immigré, entretiens avec Xenakis. Ed. «Buchet/Chastel», Paris, 1998.
Павильон «Филипс» был построен студией Ле Корбюзье для Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе. Проект, заказанный фирмой электроники «Филипс», представлял собой конструкцию из девяти гиперболических параболоидов, в которых звукооператоры распределяли музыку в пространстве при помощи дисков номеронабирателя. Здание было спроектировано для исполнения мультимедийного спектакля «Poème électronique» / «Электронная поэма» Пьера Вареза, а также с целью продемонстрировать технологический прогресс послевоенного времени. Девять гиперболических параболоидов из преднапряженного бетона, асимметрично соединенные между собой, создавали динамический изогнутый под определенными углами контур. Характерный внешний вид зданию придавала сеть стальных натяжных тросов. По словам Ксенакиса, к идее изогнутых поверхностей, состоящих из плоскостей, его подтолкнуло его произведение «Metastasis» / «Метастазис», впервые исполненное в 1955 году.
Посетителей пропускали в павильон группами по 500 человек раз в десять минут. В первом изогнутом коридоре две минуты звучала композиция Ксенакиса «Concret PH» (1958), после чего посетители проходили в основное помещение, где погружались в свет и звук: восемь минут длилась «Электронная поэма» Эдгара Вареза, сопровождаемая проекциями изображений, подобранных Ле Корбюзье, на стенах павильона. Затем зрители выходили через другую дверь, пока комнату заполняла следующая группа.
В конце 1960-х годов Ла Монте Янг и художница Мариан Зазила разработали концепцию «Dream House», звуко-световой инсталляции с использованием низких частот на основе простых чисел (сгенерированных в режиме реального времени на разработанном для них фирмой «Rayna» синтезаторе интервалов) и света спектральных цветов. Симметричные прожекторы освещают симметрично расположенные подвижные подвесные скульптуры авторства Зазилы, которые отбрасывают тени разных цветов; скульптуры плавно движутся под музыку. Раньше «Dream House» выставлялся в галереях и музеях. С 1993 года инсталляция установлена на постоянной основе в фонде MELA по адресу 275 Черч-стрит, Нью-Йорк. Больше информации о «Dream House» в статье Софи Стиванс (Sophie Stévance): La Dream House ou l'idée de la musique universelle // Circuit: musiques contemporaines. vol. 17, № 3, 2007, Р. 87–92; и на веб-сайте фонда MELA: http://melafoundation.org/DHpressFY09.html.
Вслед за представлением «Электронной поэмы» в 1958 году Ксенакис начал самостоятельную разработку нового вида шоу тотального искусства: «Политопов» (букв. «множества пространств»), которые в рамках одного представления совмещали несколько художественных «пространств» – света, цвета, звука и архитектуры. Термин «политоп» также относится к математической фигуре, которая, вероятно, послужила Ксенакису основой для архитектурной структуры этих инсталляций, которые представляли собой комплексную сбалансированную систему источников звука, лучей света и вспышек в заданных условиях архитектоники. При помощи «Политопов» Ксенакис стремился посредством света и звука создать виртуальное пространство, которое требовало бы от зрителя физической вовлеченности. Больше деталей на сайте: http://www.iannis-xenakis.org/fxe/archi/archi.html.
Пятый «Политоп» был реализован на Пелопоннесе в 1978 году. Больше информации в статье Ольги Туломи (Olga Touloumi): The Politics of Totality: Iannis Xenakis' Polytope de Mycènes // Xenakis Matters. Contexts, Processes, Applications, Sharon Kanach. Ed. «Pendragon Press», New York, 2012, P. 101.
Фестиваль современного искусства «ONCE» (1961–1966) – ежегодный фестиваль авангардного искусства в г. Энн-Арбор, штат Мичиган, основанный Робертом Эшли, Гордоном Мумма, Джорджем Качиоппо, Роджером Рейнольдсом и Дональдом Скаварда. На нем представляли свои произведения как неизвестные, так и признанные музыканты. Участников фестиваля объединял интерес к исследованию возможностей звука как посредством необычных способов игры на традиционных инструментах, так и электронных (или электронно-модифицированных) тембров и сопряжения музыкальных звуков со звуками окружающей среды. Группы «ONCE», «ONCE Friends», «ONCE AGAIN» и Кинофестиваль в Энн-Арбор зародились на этом фестивале. Группа «ONCE» под руководством Роберта Эшли стала влиятельным музыкально-театральным ансамблем, в состав которого входили архитекторы, композиторы и режиссеры, и в 1964–1969 годах выступала по всей Америке.
Фрэнк Дж. Отери, «Роберт Эшли: Это можно назвать только оперой» / Frank J. Oteri, «Robert Ashley: You can't call it anything else but opera», 1 апреля 2001, интернет-журнал «NewMusicBox»: www.newmusicbox.org/articles/a-conversation-with-robertashley/.
Альбан Берг (1885–1935) – австрийский композитор. Член Новой венской школы наряду с Арнольдом Шенбергом и Антоном Веберном; писал композиции, проникнутые духом романтизма Малера в сочетании с его личной интерпретацией 12-тоновой техники композиции Шенберга. В 1922 году Берг закончил работу над оперой «Воццек», признанным шедевром европейской музыки. Он умер в процессе работы над оперой «Лулу», которую в 1976 году закончил композитор Фридрих Церха.
«Блю» Джин Тиранни (урожденный Роберт Нейтан Шефф, р. 1945, в Сан-Антонио, штат Техас) – авангардный композитор и пианист, автор более 50 произведений для акустических и электронных инструментов и голоса, в которых исследовал различные природные и социальные явления, такие как память, пространственно-временные иллюзии, языковые аномалии, развитие сознания, сопереживание, человеческие права, чувство осмысленности, альтернативная история и т. д. В конце 1950-х годов учился у пианистов Меты Хердвига и Родни Хоара, а также у композиторов Отто Вика (ученика Энгельберта Хампердинка) и доктора Фрэнка Хьюза. Совместно с композитором Филипом Краммом организовал ряд музыкальных мероприятий, в которых они сами приняли участие. Он играл на пианино в рок-группах и евангельских церквях. В 1961 году он переехал в Энн-Арбор, штат Мичиган, где принимал участие в фестивале «ONCE». Его псевдоним родился из общего названия цикла его произведений «“Blue” Gene Tyranny's Genetic Transformations», которые он исполнял на сцене вместе с Игги Попом. В период с 1971 по 1982 год он жил в заливе Сан-Франциско и работал лектором и преподавателем музыкального отделения колледжа Миллс и звукотехником Центра современной музыки при колледже. «Блю» Джин Тиранни написал более 30 саундтреков к фильмам и видео и более 50 музыкальных произведений для танцевальных и театральных постановок. Он участвовал в записи альбомов и работе таких композиторов-исполнителей, как Роберт Эшли, Питер Гордон, Лори Андерсон, Джон Кейдж, Лерой Дженкинс, Дэвид Берман, Бренда Хатчинсон, Джон Гибсон, Уильям Дакворт (группа «The Cathedral»), Фил Перкинс, Бен Менли, Карла Блей, Игги Поп, Лиз Вэшон и многих других.
Композиция вошла в альбом «Блю» Джина Тиранни «Just For The Record», лейбл «Lovely Music», 1979.
«Perfect Lives» – телевизионная опера из семи получасовых серий, спродюсированная совместно с британским телеканалом «Channel 4» в августе 1983 года. Первая трансляция в Великобритании состоялась в апреле 1984 года, после чего оперу показывали на телевидении Австрии, Германии, Испании и США, а также на видео- и кинофестивалях по всему миру. Эта опера считается предвестницей появления музыкального телевидения. (Официальный сайт Роберта Эшли: http://www.robertashley.org/productions/perfectlives.htm.
Спродюсированная и поставленная Робертом Эшли 14-часовая документальная опера «Music with Roots in the Aether: Video Portraits of Composers and Their Music» повествует о работе и идеях семи американских композиторов. В нее вошли записи интервью со следующими композиторами: Дэвидом Берманом, Филипом Глассом, Элвином Люсьером, Гордоном Мумма, Полиной Оливерос, Терри Райли и Робертом Эшли, а также часовые записи живых исполнений их произведений. Премьера оперы состоялась на Осеннем фестивале в Париже в 1976 году, и с тех пор она была показана в более чем 100 сетях эфирного и кабельного телевизионного вещания.
Для исполнения «The Wolfman» (1964) Эшли использовал записанную им ранее композицию для магнитной пленки «The Fourth of July» (1960). Это композиция постепенно переходит от шума вечеринки во дворе дома, записанного через параболический микрофон, к наложенным слоям пленочных петель. Композиции «The Wolfman» свойственен мрачный атмосферный звук и примитивная домашняя техника коллажа, при которой в режиме реального времени накладывались электронные звуки, записанные на пленку, и голос. При создании композиции Эшли менял скорость вращения катушек магнитофона и смешивал слои «найденных» звуков – записанных с радио или в других местах при помощи микрофонов. Впервые композиция была исполнена на Нью-Йоркском фестивале авангарда Шарлотты Мурман в 1964 году.
Мортон Фельдман (1926–1987) – американский композитор, один из основоположников «неопределенной» музыки, которую затем развили композиторы нью-йоркской школы, в т. ч. Джон Кейдж, Кристиан Вульф и Эрл Браун. Работам Фельдмана свойственны нотационные нововведения, целью которых было добиться характерного звучания: «свободные, парящие ритмы; слегка размытые оттенки нот; тихая, постепенно нарастающая музыка; повторяющиеся ассиметричные рисунки».
Одно из этих интервью: Morton Feldman: An Interview with Robert Ashley, August 1964 // Contemporary Composers on Contemporary Music, ed. Elliot Schwartz, Berney Childs. Ed. «Holt, Rinehard, and Winston», New York, 1967.
См. интервью с Янисом Ксенакисом, выше.
Адольф Аппиа (1862, Женева – 1928, Ньон) – сын одного из основателей Красного Креста Луи Аппиа, швейцарский архитектор и теоретик сценического освещения и оформления. Аппиа наиболее известен оформлениями опер Вагнера. Он отказывался от двумерных нарисованных декораций в пользу трехмерных «живых» конструкций, в которых в равной степени учтена важность тени и света.
Дэвид Тюдор (1926–1996) – американский пианист и композитор экспериментальной и электронной музыки. Исполнял фортепианные партии авангардных произведений Пьера Булеза, Штокхаузена, Ла Монте Янга и других и позже писал музыку для соратника Джона Кейджа Мерса Каннингема и его труппы. В 1950–1960-х годах Тюдор тесно сотрудничал с Джоном Кейджем и исполнял его произведения, в частности «Музыку перемен», «Концерт для фортепиано и оркестра» и знаменитую «4′33″» (1952). При исполнении Тюдор сочетал звучание фортепиано с электронными звуками посредством усилителей («Вариации № 2», 1969). При помощи микрофонов, усилителей, автомобильных «габаритных усов», барабанов от фонографа и других предметов он превращал фортепиано в электронный аппарат. Из-за сложности устройства поведение инструмента и его звук были непредсказуемы.
Больше информации: http://www.lovely.com/books/bk010outsideoftime.html.
Robert Ashley. Quicksand. Ed. «Burning Books», Santa Fe, 2011.
Пьер Шеффер (1910–1995) – французский композитор и инженер по электронике. Считается основателем конкретной музыки – авангардной электроакустической техники композиции, при которой основу произведения составляли записи звуков естественного происхождения. Он разработал эту технику примерно в 1948 году совместно со Студией радиовещания «Studio d'Essai».
Альбан Берг (1885–1935) – австрийский композитор, автор атональной и 12-тоновой музыки, испытавший на себе ощутимое влияние романтизма конца XIX века. Он писал как оркестровые произведения (среди них «Пять песен для оркестра», 1912), так и камерные, а также песни и оперы («Lulu», 1937, «Wozzeck», 1925). Исполнением его работ часто дирижировал Пьер Булез.
Исследовательский отдел Французской студии радио- и телевещания (RTF) с 1960 по 1974 год возглавлял Пьер Шеффер. В нем проходили важнейшие исследования и события в сфере радио и телевидения.
Лейбл «Prospective XXIe siècle» («Перспектива XXI века») был создан компанией «Филипс» в 1967 году для издания записей конкретной, электроакустической и электронной музыки. Многие записи были выпущены ограниченным тиражом. В качестве обложек пластинок использовались абстрактные футуристские образы, напечатанные металлизированной краской. Увидеть обложки можно на сайте: http://www.hardformat.org/collections/prospective-21e-siecle/.
Звуковой объект (objet sonore) – понятие, введенное Шеффером для определения произвольной звуковой структурной единицы конкретной музыки. Звукопроизводящее тело (corps sonore) – инструмент или предмет, который производит звуковой объект. (Прим. пер.)
Три композитора – последователя Пьера Шеффера.
Йона Фридман (р. 1923) – французский архитектор венгерского происхождения, известный в 1950-1960-х годах своими идеями «мегаструктур». После публикации его манифеста «Мобильная архитектура» в 1958 году он разработал концепцию «Пространственного города» – проекта «каркаса» города из мобильных, временных и легких структур, из которых жители могли бы сами строить дома согласно своим нуждам и предпочтениям.
Седрик Прайс (1934–2003) – прогрессивный британский архитектор, приверженец идеи непостоянства в городском устройстве. Он рассматривал время как четвертое измерение наряду с длиной, шириной и высотой. Среди его проектов известен «Potteries Thinkbelt» – проект радикального пересмотра базовой концепции университета как экономического катализатора с мобильными учебными студиями, передвигающимися по рельсам. Под влиянием его работы была создана английская авангардная группа архитекторов «Archigram», которые занимались разработкой гипотетических проектов футуристической архитектуры, не претендовавших на реализацию.
Идея системы EIS, изобретенной Полиной Оливерос в 1965 году, возникла после обнаружения эффекта задержки между записью и воспроизведением на катушечном магнитофоне. В настоящее время усовершенствованный аналог этой системы предлагает программное обеспечение «Max/MSP». На протяжении 20 лет в разработке системы участвовали Панайотис, Дэвид Гемпер, Стефан Мур, Джонатан Маркус, Оливия Робинсон, Джесси Стайлз и Зевин Ползин. Она позволяет музыкантам-импровизаторам индивидуально контролировать ряд параметров, по которым она преобразует входящий звуковой сигнал при живом выступлении. Все звуки, которые производят музыканты – сами и при помощи инструментов, записываются через микрофоны и проходят через систему, где трансформации подвергается высота, временные и пространственные параметры сигнала. Преобразованный звук воспроизводится через некоторый промежуток времени позже в ходе выступления. Больше информации на сайте «Deep Listening»: www.deeplistening.org/site/content/expandedmusicalinstruments.
Эффект задержки – это аудиоэффект, при котором происходит запись входящего звукового сигнала и ее воспроизведение через промежуток времени, наподобие эха. Задержанный сигнал может быть воспроизведен один раз или множество, с затуханием или без. Первые эффекты задержки достигались посредством импровизированной петли пленки на катушечных записывающих магнитофонах. Для настройки свойств эха нужно было менять длину петли и регулировать положение записывающей и воспроизводящей головок. Этой техникой часто пользовались композиторы конкретной музыки, такие как Пьер Шеффер и Карлхайнц Штокхаузен. Цифровой эффект задержки появился в начале 1980-х годов в качестве альтернативы аналоговому эффекту, и он позволял контролировать более сложные настройки, в том числе время перед воспроизведением задержанного сигнала. «Lexicon PCM 42» – одно из подобных устройств.
Рамон Сендер Барайон (р. 1934, Мадрид, Испания) – композитор, художник и писатель, совместно с Мортоном Суботником в 1961 году основавший Центр магнитофонной музыки Сан-Франциско. Он учился у Джорджа Коупленда, Эллиота Картера и Роберта Эриксона в Калифорнии, в том числе в колледже Миллс в 1965 году. Помимо прочих инструментов, свои произведения Сендер иногда исполняет на дилрубе, индийской арфе. Официальный веб-сайт: www.raysender.com.
Центр магнитофонной музыки Сан-Франциско (SFTMC) просуществовал пять лет, после чего в 1966 году слился с Центром современной музыки колледжа Миллс. Членами центра были Полина Оливерос, Рамон Сендер, Мортон Суботник, Терри Райли, Стив Райх, Тони Мартин и Уильям Магиннис. Центр представлял собой концертное пространство и место для ознакомления с музыкальными произведениями при помощи магнитофонной техники. Деятельность членов центра совмещала композиторское творчество и инженерные разработки. В середине 1960-х годов совместно с инженером Дональдом Букла центр разработал модулярную систему электронной музыки «Букла», инновационный синтезатор, на котором клавиатуру заменила панель из 16 сенсорных дисков (Архивы колледжа Миллс: www.mills.edu/campus_life/center_for_contemporary_music/archives.php; Thom Holmes. Electronic and Experimental Music: Pioneers in Technology and Composition. Ed. «Routledge», London, 2002. P. 206).
См. интервью с Терри Райли (ниже).
Терри Райли и Полина Оливерос вместе изучали музыкальную композицию в Государственном колледже Сан-Франциско в конце 1950-х годов.
См. интервью со Стивом Райхом (ниже).
«Центр магнитофонной музыки Сан-Франциско: контркультура и авангард 1960-х» (The San Francisco Tape Music Center: 1960s Counterculture and the Avant-Garde, ed. David W. Bernstein. Ed. «University of California Press and Rensselaer Polytechnic Institute», Los Angeles, Berkley, 2008.)
См. интервью с Пьером Булезом, Карлхайнцем Штокхаузеном и Янисом Ксенакисом (ниже).
Тони Мартин (р. 1937, Теннесси) создавал визуальное оформление для концертов Центра магнитофонной музыки Сан-Франциско в виде интерактивных инсталляций из проекций и световых эффектов. В частности, он работал с Рамоном Сендером над композицией «Desert Ambulance» / «Скорая помощь пустыни» (1964), демонстрировавшей гибкость возможностей магнитофонной музыки. «Произведение состояло из ряда составных частей: двухканального коллажа из заимствованных звуков и музыки, живого вокального исполнения и исполнения на аккордеоне Полины Оливерос и обширного светового представления, разработанного Тони Мартином» / Liz Glass. A Thing in the Process of Becoming: The San Francisco Tape Music Center (Нечто в процессе становления: Центр магнитофонной музыки Сан-Франциско) / Art Practical. The Sound Issue. March, 2013). Среди прочих работ Мартина – «Theater For Walkers, Talkers, Touchers», мультисенсорное произведение, контролируемое средой, над которым он работал совместно с Дэвидом Тюдором для танцевального театра Мерса Каннингема; произведение для павильона «Пепси» организации E. A. T. («Эксперименты в искусстве и технологии») для Всемирной выставки 1970 года в Осаке, Япония; из недавних – «Light Pendulum» / «Световой маятник» (2009), автономная кинетическая скульптура, задействованная в различных представлениях, управление которой происходит через элементы среды (свет, звук, движение). Официальный веб-сайт: www.tonymartin.us.
Мортон Суботник (р. 1933, Лос-Анджелес) – один из основателей Центра магнитофонной музыки Сан-Франциско, новатор электронной музыки и мультимедийных перформансов. Он первым нашел применение модульному синтезатору Буклы, управляемому напряжением, и написал с его участием произведение «Silver Apples of the Moon» / «Серебряные яблоки Луны» (1967), которое получило всемирную известность. Работа была записана на лейбле «Nonesuch Records» и стала первым отдельным электронным произведением, выпущенным на долгоиграющей пластинке. Официальный веб-сайт: www.mortonsubotnick.com.
Книга была опубликована в 2008 году: Felix Meyer & Anne C. Shreffer. Elliott Carter: A Centennial Portrait in Letters and Documents. Paul Sacher Foundation. Ed. «Boydell Press», Woodbridge, Suffolk. 2008.
В 1965 году Полина Оливерос написала произведение «Light Piece» специально для Дэвида Тюдора.
Живая птица откликалась на звучание инструментов свистом и высоким криком.
Джордж Брехт (1926–2008) – одна из центральных фигур арт-движения Флуксус. Один из основоположников «коллективного» искусства, т. е. искусства, в котором произведение невозможно без активного участия зрителей. Наибольшую известность ему принесли его «Event scores» / «Партитуры события», в частности «Drip music» (1962), и написанный им в 1953 году текст «Chance Imagery» о роли случайности в науке и искусстве.
Элисон Ноулз (р. 1933) и Дик Хиггинс (1938–1998) – активные участники движения Флуксус в 1960-х годах. Сейчас Элисон Ноулз работает художником перформанса. Она была вторым редактором и оформителем книги «Нотации» Джона Кейджа – сборника его графических партитур (1969) – и совместно с Марселем Дюшаном работала над фотоотпечатками «Coeurs Volants» / «Порхающие сердца», а также с Джорджем Мациюнасом над скульптурой «Bean Roles» (1963) в рамках движения Флуксус. Признание Ноулз также принес проект «House of Dust» / «Дом пыли» (1967) – первое известное в мире сгенерированное компьютером стихотворение, созданное совместно с композитором Джеймсом Тенни. Стихотворение было создано вместе со скульптурной инсталляцией, выставленной в Калифорнийском институте искусств, где Ноулз преподавала с 1970 по 1972 год. Официальный веб-сайт: www.aknowles.com.
Дик Хиггинс был одним из ключевых участников Флуксуса. Он изучал экспериментальную музыку на курсах Джона Кейджа в Новой школе социальных исследований, после чего участвовал во многих концертах Флуксуса в студии Йоко Оно и галерее AG в Нью-Йорке. В 1964 году он основал издательство «Something Else Press», которое во многом способствовало популяризации работ художников авангарда и Флуксуса. В 1971 году он издал книгу «Unpublished editions» (также известную под названием «Printed Press»). Преподаватель Калифорнийского института искусств, драматург и эссеист, Дик Хиггинс интересовался понятием алеаторики, которое он раскрывает в своей работе «The Book of Love & War & Death» / «Книга о любви, войне и смерти» (1965). Также в 1965 году он ввел термин «интермедиа» («intermedia») для обозначения междисциплинарного творчества, широко распространенного в 1960-х годах.
См. интервью с Брайаном Ино, (ниже).
Йона Фридман (р. 1923) – французский архитектор венгерского происхождения, известный в 1950-1960-х годах своими идеями «мегаструктур». После публикации его манифеста «Мобильная архитектура» в 1958 году он разработал концепцию «Пространственного города» – проекта «каркаса» города из мобильных, временных и легких структур, из которых жители могли бы сами строить дома согласно своим нуждам и предпочтениям.
Стюарт Демпстер (р. 1936, Беркли, штат Калифорния) учился исполнению и композиции в Государственном колледже Сан-Франциско. С 1962 по 1966 год он был первым тромбонистом Оклендского симфонического оркестра. В 1968 году он вошел в преподавательский состав Университета Вашингтона. Демпстер изучал диджериду, музыкальный инструмент аборигенов Австралии, и опубликовал работу «Современный тромбон: Описание его выразительных средств» («The Modern Trombone: A Defnition of Its Idioms», 1979), а также писал музыку для Новой сценической группы Сиэтла (Seattle's New Performance Group) и Мерса Каннингема.
Дэвид Гемпер (1945–2011) – художник по звуку и исполнитель. Особый интерес у него вызывало сочетание традиционного инструментального исполнения и звуковых модификаций, которые позволяли осуществлять новые технологии. При помощи изобретенной им системы «Sound Shifter» он подвергал электронной обработке живое звучание инструментов (фортепиано, духовых и проч.). Совместно с Полиной Оливерос он занимался разработкой Расширенной инструментальной системы (EIS) и с 1990 года был участником группы «The Deep Listening Band». Вместе с фотографом Гизелой Гемпер он образовал творческий союз «See Hear Now», в рамках которого занимался созданием визуальных образов, основанных на его композициях. Официальный веб-сайт: www.seehearnow.org.
Защищенная сеть нового поколения, которая объединяет американские научные и образовательные сообщества и благодаря высокой пропускной способности приспособлена для активного использования, в т. ч. проведения видеоконференций в высоком качестве звука и изображения.
Этот концерт прошел 26 октября 2007 года в галерее «Серпентайн» в Лондоне. Полина Оливерос исполнила на аккордеоне композицию «Mind Matter: A Solo Peace». Звук через ее ноутбук распределялся по динамикам, расположенным по кругу внутри павильона.
«Техника “глубокого слушания”, разработанная Полиной Оливерос, в сущности, подразумевала изучение разницы между непроизвольной и произвольной, выборочной природой – исключающей и обобщающей – слухового восприятия. В практику “глубокого слушания” входят работа с телом, акустическая медитация, интерактивные выступления, вслушивание в повседневные звуки, звуки природы, в собственные мысли, воображение и мечты, вслушивание в сам процесс вслушивания. Эта практика развивает повышенную чувствительность к сфере звуков, внутренней и внешней». («Общая концепция» [«Mission statement»], официальный сайт «глубокого слушания»: deeplistening.org/site/content/about).
В апреле 1957 года на Конвенции Американской федерации искусства (Хьюстон, штат Техас) Марсель Дюшан зачитал свой доклад «Творческий процесс» / «Creative Act», в котором высказал свою точку зрения о том, что «в творческом процессе участвует не только автор; произведение соприкасается с внешним миром через зрителя, который расшифровывает его, истолковывает его внутреннее содержание и, таким образом, вносит свой вклад в творческий процесс». В 1958 году в сочинении «Duchamp du Signe» Марсель Дюшан развил эту мысль и пришел к выводу, что «картину создает зритель» (см.: М. Duchamp. Duchamp du Signe. Ed. «Flammarion», Paris, 1975). Здесь Ханс Ульрих Обрист объединяет эту популярную концепцию с заявлением художницы Доминик Гонсалес- Ферстер, по-своему интерпретировавшей работы Дюшана.
Конференция, организованная Рэнди Томом и Эриком Бауэрсфельдом с целью «объединить творческих деятелей разных сфер звуковой медиасреды: радиоспектаклей, кино, музыкального видео, театра, музыки. Основной задачей участников было услышать и обсудить различные эстетические и творческие подходы к использованию звука, в частности новое искусство саунд-арта ‹…›, чтобы расширить свои представления об эстетических возможностях звукового дизайна во всех видах искусства» (из отчета организации «Bay Area Radio Drama»: www.bardradio.com/design.html).
Интервью, взятое Аланом Бейкером для American Public Media в январе 2003 года. Доступно в сети по адресу: publicradio.org/features/interview_oliveros.html.
Оскар Сала (1910–2002) – немецкий физик и композитор, работавший с траутониумом, монофоническим электронным музыкальным инструментом, который создал Фридрих Траутвайн в Берлине примерно в 1929 году. Этот инструмент считается предшественником синтезатора.
«Bell Labs», или «Bell Laboratories» – созданный в 1925 году центр инновационных исследований и разработок, известный множеством изобретений в сфере телекоммуникаций и информационных технологий (радио астрономия, транзистор, Unix, C+ и т. д.). Макс Мэтьюс, инженер «Bell Labs», первым разработал технологию электронной генерации звука при помощи компьютерной программы MUSIC. Он же создал первое сгенерированное на компьютере произведение – «Silver Scale» (1957), 17-секундную композицию, написанную Ньюманом Гуттманом.
Сэр Харрисон Биртуисл (р. 1934) – британский композитор и одна из крупнейших фигур в современной европейской музыке. Он черпал вдохновение в современной живописи, ритуалах классической мифологии и доисторических времен, сочетая в своем творчестве модернистскую эстетику и эмоциональную мощь. За оперу «Маска Орфея» / «The Mask of Orpheus» – сплав музыки, драмы, мифа, пантомимы и электронной музыки – он был награжден премией «Ивнинг стандард Опера» (1986) и премией Гравемайера (1987).
Ханс Вернер Хенце (1926–2012) – немецкий композитор, охвативший в своих работах сериализм, неоклассицизм, популярные итальянские музыкальные стили и 12-тоновую технику композиции. Он писал оперы, симфонии, концерты, произведения для солистов, а также музыку к кинофильмам (в т. ч., к фильмам французского режиссера Алена Рене). Под впечатлением от Второй мировой войны, Красного мая 1968 года и революции на Кубе он выражал в музыке свои политические взгляды, например в «Das Floss Der Medusa» (1968), оратории, посвященной Че Геваре.
Зиновьев говорит о концерте 1967 года. «Million Volt Light and Sound Rave» (также известном как «Фестиваль света») в концертном зале «Roundhouse» в Лондоне. На фестивале с произведениями магнитофонной музыки выступила группа «Unit Delta Plus», и была проиграна экспериментальная композиция «The Beatles» – «Carnival of Light», 14-минутный коллаж, смонтированный Полом Маккартни.
Рассел Хасуэлл (р. 1970) – британский междисциплинарный деятель искусства и куратор. Наиболее известен по работам в рамках экстремальной компьютерной музыки. Для этого стиля характерны грубые эксперименты со звуковыми частотами, присущие жанру нойз-музыки, с использованием музыкальных компьютерных технологий. В частности, совместно с электроакустическим музыкантом Флорианом Хекером он выпустил альбом «Kanal GENDYN» с использованием разработанной Янисом Ксенакисом программы «UPIC». В 2010 году Хасуэлл предложил Зиновьеву написать произведение («Bridges from Somewhere and Another to Somewhere Else») для акустического павильона «The Morning Line» в Стамбуле, призванного «исследовать междисциплинарные связи между изобразительным искусством, архитектурой, музыкой, математикой, космологией и наукой».
Йона Фридман (р. 1923) – французский архитектор венгерского происхождения, известный в 1950-1960-х годах своими идеями «мегаструктур». После публикации его манифеста «Мобильная архитектура» в 1958 году он разработал концепцию «Пространственного города» – проекта «каркаса» города из мобильных, временных и легких структур, из которых жители могли бы сами строить дома согласно своим нуждам и предпочтениям.
Проект «Fun Palace» был разработан Седриком Прайсом совместно с театральным режиссером Джоан Литтлвуд и должен был быть возведен в парке Ли Вэлли в Восточном Лондоне. Хотя этого так и не случилось, концепция «лаборатории веселья», гибкого пространства для отдыха с подвижной структурой, стала вдохновением для таких архитекторов, как Ричард Роджерс и Ренцо Пиано, и их проекта – центра Помпиду в Париже.
Отделение музыки университета в Беркли несколько десятилетий считалось одним из лучших музыкальных факультетов США. Помимо программы, совмещавшей академическую часть обучения с практикой живых выступлений, факультет стал известен благодаря слиянию с Центром новой музыки и аудиотехнологий (Center for New Music and Audio Technologies, CNMAT), где проходили междисциплинарные исследования компьютерных и смежных с компьютерными технологий в музыке и обучение их использованию. На территории отделения также находились Музыкальная библиотека Джин Грей Харгроув, большой концертный зал «Херц Холл» и Карильон, музыкальный инструмент из 61 колокола, который стоял в центре кампуса. На нем давали ежедневные концерты карильонисты, студенты и гости университета (официальный сайт: music.berkeley.edu/).
См. интервью с Полиной Оливерос, (выше).
Ла Монте Янг и Терри Райли написали для танцевальной труппы Анны Халприн такие произведения, как «Stillpoint» (1960), «Visions» (1960) и «Four-Legged Stool» (1961). Хореография постановки «Four-Legged Stool» сопровождалась записью композиции Терри Райли «Mescaline Mix» (1961–1962) – сочинением с использованием пленочных петель, написанным им в соавторстве с композитором электроакустической музыки Ричардом Максфилдом под впечатлением от опыта употребления мескалина.
См. интервью с Карлхайнцем Штокхаузеном (выше).
Луиджи Ноно (1924–1990) – современный композитор. Он посещал знаменитые Дармштадтские летние курсы вместе с итальянскими композиторами Лучано Берио и Бруно Мадерна и позже стоял в одном ряду с такими молодыми модернистами, как Пьер Булез и Карлхайнц Штокхаузен. Во многих отношениях Ноно считается из них самым радикальным. Он вел активную политическую деятельность как член Коммунистической партии, а в музыке сочетал аскетичную красоту с неистовой энергией. (См. James Harley, http://www.allmusic.com/artist/luiginonomn0001196376/biography.)
Элисон Ноулз (р. 1933) и Дик Хиггинс (1938–1998) – активные участники движения Флуксус в 1960-х годах. Сейчас Элисон Ноулз работает художником перформанса. Она была вторым редактором и оформителем книги «Нотации» Джона Кейджа – сборника его графических партитур (1969) – и совместно с Марселем Дюшаном работала над фотоотпечатками «Coeurs Volants» / «Порхающие сердца», а также с Джорджем Мациюнасом над скульптурой «Bean Roles» (1963) в рамках движения Флуксус. Признание Ноулз также принес проект «House of Dust» / «Дом пыли» (1967) – первое известное в мире сгенерированное компьютером стихотворение, созданное совместно с композитором Джеймсом Тенни. Стихотворение было создано вместе со скульптурной инсталляцией, выставленной в Калифорнийском институте искусств, где Ноулз преподавала с 1970 по 1972 год. Официальный веб-сайт: www.aknowles.com.
Дик Хиггинс был одним из ключевых участников Флуксуса. Он изучал экспериментальную музыку на курсах Джона Кейджа в Новой школе социальных исследований, после чего участвовал во многих концертах Флуксуса в студии Йоко Оно и галерее AG в Нью-Йорке. В 1964 году он основал издательство «Something Else Press», которое во многом способствовало популяризации работ художников авангарда и Флуксуса. В 1971 году он издал книгу «Unpublished editions» (также известную под названием «Printed Press»). Преподаватель Калифорнийского института искусств, драматург и эссеист, Дик Хиггинс интересовался понятием алеаторики, которое он раскрывает в своей работе «The Book of Love & War & Death» / «Книга о любви, войне и смерти» (1965). Также в 1965 году он ввел термин «интермедиа» («intermedia») для обозначения междисциплинарного творчества, широко распространенного в 1960-х годах.
Экспериментальная театральная труппа, основанная в 1947 году в Нью-Йорке актерами и режиссерами театра Джулианом Беком и Джудит Малина в качестве альтернативы коммерческому театру.
В конце 1960-х годов Ла Монте Янг и художница Мариан Зазила разработали концепцию «Dream House», звуко-световой инсталляции с использованием низких частот на основе простых чисел (сгенерированных в режиме реального времени на разработанном для них фирмой «Rayna» синтезаторе интервалов) и света спектральных цветов. Симметричные прожекторы освещают симметрично расположенные подвижные подвесные скульптуры авторства Зазилы, которые отбрасывают тени разных цветов; скульптуры плавно движутся под музыку. Раньше «Dream House» выставлялся в галереях и музеях. С 1993 года инсталляция установлена на постоянной основе в фонде MELA по адресу 275 Черч-стрит, Нью-Йорк. Больше информации о «Dream House» в статье Софи Стиванс (Sophie Stévance): La Dream House ou l'idée de la musique universelle // Circuit: musiques contemporaines. vol. 17, № 3, 2007, Р. 87–92; и на веб-сайте фонда MELA: http://melafoundation.org/DHpressFY09.html.
Пьер Анри (р. 1927, Париж) – один из первых композиторов конкретной музыки наряду с Пьером Шеффером. Он сотрудничал с хореографом Морисом Бежаром, в частности над произведением «Messe pour le temps présent», в которое вошла его известнейшая композиция «Psyché Rock» (1967). Инсталляция, о которой говорит Терри Райли, располагалась в доме Пьера Анри. Особый интерес Райли вызывали эксперименты с прослушиванием музыки в разных контекстах.
Вслед за представлением «Электронной поэмы» в 1958 году Ксенакис начал самостоятельную разработку нового вида шоу тотального искусства: «Политопов» (букв. «множества пространств»), которые в рамках одного представления совмещали несколько художественных «пространств» – света, цвета, звука и архитектуры. Термин «политоп» также относится к математической фигуре, которая, вероятно, послужила Ксенакису основой для архитектурной структуры этих инсталляций, которые представляли собой комплексную сбалансированную систему источников звука, лучей света и вспышек в заданных условиях архитектоники. При помощи «Политопов» Ксенакис стремился посредством света и звука создать виртуальное пространство, которое требовало бы от зрителя физической вовлеченности. Больше деталей на сайте: http://www.iannis-xenakis.org/fxe/archi/archi.html.
В торговом центре «Euralille» по случаю номинации города на звание Культурной столицы Европы.
«The Heaven Ladder» на данный момент состоит из семи книг.
Адольф Вельфли (1864–1930) – швейцарский художник, который вел основную творческую деятельность примерно в 1900 году в Берне. Он был болен шизофренией (официальный вебсайт: www.adolfwoelfi.ch). Основой для оперы Терри Райли послужили рисунки, стихи, записки и математические вычисления, ставшие результатом психотических галлюцинаций Адольфа Вельфли.
Работа впервые была представлена в Окружном музее искусства Лос-Анджелеса.
Пандит Пран Нат (1918–1996) – североиндийский певец стиля Кирана, последний классический певец этого стиля. Традиция Кираны зародилась в XIII веке при дворе правителя делийского султаната Ала-ад- дина Хильджи. Став известным певцом в Индии, в 1970 году Пран Нат познакомился с Терри Райли, Ла Монте Янгом, женой Янга и художницей Мариан Зазила, которые впоследствии стали его учениками. В 1972 году в Нью-Йорке он основал свой образовательный центр – Центр индийской классической музыки школы Кирана.
В фонде Адольфа Вельфли.
Элисон Ноулз (р. 1933) и Дик Хиггинс (1938–1998) – активные участники движения Флуксус в 1960-х годах. Сейчас Элисон Ноулз работает художником перформанса. Она была вторым редактором и оформителем книги «Нотации» Джона Кейджа – сборника его графических партитур (1969) – и совместно с Марселем Дюшаном работала над фотоотпечатками «Coeurs Volants» / «Порхающие сердца», а также с Джорджем Мациюнасом над скульптурой «Bean Roles» (1963) в рамках движения Флуксус. Признание Ноулз также принес проект «House of Dust» / «Дом пыли» (1967) – первое известное в мире сгенерированное компьютером стихотворение, созданное совместно с композитором Джеймсом Тенни. Стихотворение было создано вместе со скульптурной инсталляцией, выставленной в Калифорнийском институте искусств, где Ноулз преподавала с 1970 по 1972 год. Официальный веб-сайт: www.aknowles.com.
Дик Хиггинс был одним из ключевых участников Флуксуса. Он изучал экспериментальную музыку на курсах Джона Кейджа в Новой школе социальных исследований, после чего участвовал во многих концертах Флуксуса в студии Йоко Оно и галерее AG в Нью-Йорке. В 1964 году он основал издательство «Something Else Press», которое во многом способствовало популяризации работ художников авангарда и Флуксуса. В 1971 году он издал книгу «Unpublished editions» (также известную под названием «Printed Press»). Преподаватель Калифорнийского института искусств, драматург и эссеист, Дик Хиггинс интересовался понятием алеаторики, которое он раскрывает в своей работе «The Book of Love & War & Death» / «Книга о любви, войне и смерти» (1965). Также в 1965 году он ввел термин «интермедиа» («intermedia») для обозначения междисциплинарного творчества, широко распространенного в 1960-х годах.
Михаил Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. / Mikhail Bakhtin. Problems of Dostoevsky's Poetics. Ed. «University of Minnesota Press», Minneapolis, 1984.
Натуральный строй – это любой музыкальный строй, в котором соотношение звуковых частот нот можно выразить рядом натуральных чисел. В его основу положены чистые интервалы. Натуральный строй был известен еще в Древней Греции и стал эстетическим идеалом музыкальных теоретиков в период Ренессанса.
В отличие от натурального строя, в равномерно темперированном строе каждая октава делится на математически равные интервалы (каждые две расположенные рядом ноты имеют равное частотное соотношение). Поскольку клавишные инструменты позволяют играть в любой тональности с минимальными погрешностями в интонировании, равномерная темперация пришла на смену более ранним строям, основанным на чистых интервалах.
Кристиан Вульф (р. 1934, Ницца) – композитор экспериментальной классической музыки. Учился игре на фортепиано у Грете Султан и композиции у Джона Кейджа в Америке. Особенностью музыки Вульфа является предоставление исполнителям разной степени свободы в интерпретации его произведений, что привело к изобретению нескольких новых методов записи партитур. В основе его работ лежат понятия коллективной свободы, самостоятельности и демократичного сотрудничества. Некоторые его произведения содержат явный политический подтекст («Изменяя систему» / «Changing the System», 1973; «Марш за мир» / «Peace March», 1983–2005). Начиная с 1950-х годов танцевальная труппа Мерса Каннингема стала использовать при постановках некоторые произведения Вульфа. Также ряд его композиций записала в своей обработке рок-группа «Sonic Youth».
Дэвид Тюдор (1926–1996) – американский пианист и композитор экспериментальной и электронной музыки. Исполнял фортепианные партии авангардных произведений Пьера Булеза, Штокхаузена, Ла Монте Янга и других и позже писал музыку для соратника Джона Кейджа Мерса Каннингема и его труппы. В 1950–1960-х годах Тюдор тесно сотрудничал с Джоном Кейджем и исполнял его произведения, в частности «Музыку перемен», «Концерт для фортепиано и оркестра» и знаменитую «4′33″» (1952). При исполнении Тюдор сочетал звучание фортепиано с электронными звуками посредством усилителей («Вариации № 2», 1969). При помощи микрофонов, усилителей, автомобильных «габаритных усов», барабанов от фонографа и других предметов он превращал фортепиано в электронный аппарат. Из-за сложности устройства поведение инструмента и его звук были непредсказуемы.
Генри Флинт (р. 1940, Гринсборо, штат Северная Каролина) – американский философ, авангардный музыкант, художник и «активист против искусства». В 1961 году он ввел термин «концептуальное искусство» для обозначения «искусства, идею которого составляет материал, на основе которого оно создано, так, для музыки это – звук». В 1962 году Флинт развернул свою кампанию «против искусства». В 1963 году он выступал с демонстрациями против институтов в сфере культуры в Нью-Йорке вместе с Тони Конрадом и Джеком Смитом и дважды в 1964 году против Штокхаузена. В тот период совместно с Джорджем Мациюнасом он сформировал общество «Движение против культурного империализма» (Action Against Cultural Imperialism [AACI]). Генри Флинт учился в Гарвардском университете с намерением стать философом-математиком, но в итоге в начале 1970-х годов занялся музыкой в Нью-Йорке, начав брать уроки пения у североиндийского мастера школы Кирана Пандита Прана Ната. Большая часть музыкальной деятельности Флинта была нацелена на радикальное возрождение музыки юга Америки, хотя в ранние годы он в основном увлекался классической музыкой. Ссылка: www.henryfynt.org.
См. интервью с Терри Райли (выше).
См. интервью со Стивом Райхом (ниже).
Люси Липпард. Шесть лет: дематериализация арт-объекта с 1966 по 1972. (Lucy Lippard. Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972. Ed. «University of California Press», Los Angeles, 1973.)
«Пьеса для фортепиано XI» / «Klavierstück XI» (1956) представляет собой 19 отрывков, сочиненных и записанных традиционным образом в виде партитуры, которые в случайном порядке распечатаны на большом листе плотной бумаги. Порядок исполнения отрывков устанавливает пианист во время исполнения. Инструкции на обратной стороне плаката гласят, что исполнитель должен играть в случайном порядке все отрывки до тех пор, пока один из отрывков не будет сыгран три раза.
Корнелиус Кардью (1936–1981) – английский композитор экспериментальной музыки, графический дизайнер и активный приверженец марксизма-ленинизма; один из основателей «Scratch Orchestra» (1969–1974), экспериментального концертного ансамбля, к которому мог присоединиться любой желающий. Ансамбль использовал графические партитуры вместо традиционных нотных записей и делал акцент на импровизации.
С 1958 по 1960 год. Кардью был ассистентом Штокхаузена в Студии электронной музыки в Кельне и работал над композиционным планом партитуры «Carré», крупной симфонии Штокхаузена для четырех оркестров и четырех хоров.
Джордж Брехт (1926–2008) – одна из центральных фигур арт-движения Флуксус. Один из основоположников «коллективного» искусства, т. е. искусства, в котором произведение невозможно без активного участия зрителей. Наибольшую известность ему принесли его «Event scores» / «Партитуры события», в частности «Drip music» (1962), и написанный им в 1953 году текст «Chance Imagery» о роли случайности в науке и искусстве.
Прослушав курс Кейджа по экспериментальной композиции, Брехт начал искать новый медиум для своей творческой деятельности, а именно новый способ записи партитуры, который позволял бы включить элемент случайности и использовать звуки окружающей обстановки. Так появились «Партитуры события» / «Event scores», краткие текстовые партитуры, состоящие из списков терминов и незаконченных инструкций, которые подразумевали участие зрителей в исполнении. Участники Флуксуса часто пользовались такими партитурами на своих выступлениях. 10 «Мерцание» / «The Flicker» – экспериментальный фильм, созданный Тони Кон радом в 1965 году. Он состоял из пяти кадров: предупреждения для зрителей, подверженных эпилептическим припадкам, два кадра с титрами («Тони Конрад представляет» и «Мерцание»), черный кадр и белый кадр. В качестве саундтрека использована запись композиции, сыгранной Конрадом на синтезаторе, под которую черный и белый кадры сменяют друг друга, создавая эффект стробоскопа.
Андеграундная киностудия, существовавшая параллельно с «Фабрикой» Энди Уорхола и оказавшая на нее определенное влияние. Недолгий промежуток времени в 1960-х годах ей руководил Джек Смит (1932–1989).
Jonas Mekas. Movie Journal // «Village Voice». July, 1972.
Жан Руш (1917–2004) – французский режиссер и этнолог.
Branden W. Joseph. Beyond The Dream Syndicate, Tony Conrad and the Arts After Cage. Ed. «MIT Press», Cambridge, Massachusetts, 2008.
См. интервью с «Kraftwerk» (ниже).
Для специального издания книги «Герхард Рихтер: городская жизнь» Герхард Рихтер создал серию картин по фотографиям, «Firenze» (2000), посвященных Стиву Райху и творчеству оркестра «Contempoartensemble». К изданию прилагается CD-диск с записями композиций «Городская жизнь / Секстет» («City Life / Sextet») Стива Райха. В 2009 году в качестве сопровождения выставки абстрактных работ Герхарда Рихтера в Музее Людвига в Кельне Стив Райх исполнил там «Drumming: Часть первая» и «Музыку для 18 музыкантов» в Кельнской филармонии.
Написана для церемонии вручения премии «MacDowell Medal» 2005 года. Доступно на: www.stevereich.com.
Лучано Берио (1925–2003) – итальянский композитор. В 1960-х годах он преподавал в Тэнглвудском музыкальном центре, на летних Дартингтонских и Дармштадтских курсах, в Гарварде, Джульярдской школе и колледже Миллс (г. Окленд, штат Калифорния), где вместе с Дариюсом Мийо и Мортоном Суботником в 1963 году создал группу «Mills Performing Group». В 1955 году совместно с Бруно Мадернаон основал первую студию электронной музыки в Италии и в 1987 году музыкальный исследовательский центр «TempoReale» в Милане. Он также стал автором ряда телепередач, нацеленных на популяризацию современной музыки в Италии. Берио исследовал возможности звука, в первую очередь, голоса часто совместно со своей женой, американской певицей (меццо-сопрано) Кэти Бербериан (1928–1983), владевшей широчайшими техниками пения и обладавшей тонким слухом. Ярким примером их сотрудничества служит композиция «Sequenza III для сольного голоса» (1963), в которой в течение семи с половиной минут отражены 44 эмоциональных состояния через традиционное пение, кашель, вздохи, рыдания и звук, который Берио называл «девушка-птица» («girl-bird»). В качестве основы произведения для магнитной пленки «Оммаж Джойсу» / «Omaggio a Joyce» (1958) использована запись голоса Бербериан. При создании другого важного сочинения, «Sinfonia» (1969), Берио использовал принципы цитации и коллажа.
«Ensemble Modern» – камерный ансамбль, посвятивший свою работу творчеству современных композиторов. Ансамбль был основан в 1980 году и базируется во Франкфурте, Германия. Он исполнял произведения таких композиторов, как Чарльз Айвз, Оливье Мессиан, Курт Вайль, Эдгар Варез, Конлон Нэнкерроу, Карлхайнц Штокхаузен, Стив Райх, Джордж Бенджамин, Пьер Булез и т. д.
См. интервью с Янисом Ксенакисом, (выше).
В конце 1960-х годов Ла Монте Янг и художница Мариан Зазила разработали концепцию «Dream House», звуко-световой инсталляции с использованием низких частот на основе простых чисел (сгенерированных в режиме реального времени на разработанном для них фирмой «Rayna» синтезаторе интервалов) и света спектральных цветов. Симметричные прожекторы освещают симметрично расположенные подвижные подвесные скульптуры авторства Зазилы, которые отбрасывают тени разных цветов; скульптуры плавно движутся под музыку. Раньше «Dream House» выставлялся в галереях и музеях. С 1993 года инсталляция установлена на постоянной основе в фонде MELA по адресу 275 Черч-стрит, Нью-Йорк. Больше информации о «Dream House» в статье Софи Стиванс (Sophie Stévance): La Dream House ou l'idée de la musique universelle // Circuit: musiques contemporaines. vol. 17, № 3, 2007, Р. 87–92; и на веб-сайте фонда MELA: http://melafoundation.org/DHpressFY09.html.
«Any old time you use it» – цитата из песни Чака Берри «Rock And Roll Music». (Прим. пер.)
Перотин – французский композитор конца XII – начала XIII века. Вместе со своим предшественником Леонином они были первыми авторами органумов, самой ранней разновидности многоголосной музыки. Они изобрели новый способ нотации на ритмической основе, позволявший записывать многоголосные произведения. Перотин первым начал работать с трехголосными и четырехголосными органумами: в качестве тональной основы он, чаще всего, использовал григорианский хорал в исполнении солиста, поверх которого звучали более высокие перекликающиеся партии, исполнявшие ритмические вокальные рисунки во время протяженных слогов в партии хорала. В этом крайне затейливом многоголосье части-«клаузулы» чередовались с григорианскими распевами в унисон и более короткими аккордовыми частями, написанными «дискантом» (способ написания музыки, при котором фиксируются ноты, а ритм импровизируется). (Timothy Dickey, http://www.allmusic.com/artist/p%C3%A9rotin-mn0001556372/biography.)
Саксофонист Джон Колтрейн (1926–1967) – одна из самых важных и противоречивых фигур в джазе, мастер импровизации. Особенно известно его совместное творчество с трубачом Майлзом Дэвисом и пианистом Телониусом Монком.
Эрик Долфи (1928–1964) – американский джазовый саксофонист-альтист, флейтист и бас-кларнетист. Его импровизациям были свойственны широкие интервалы и разнообразные немузыкальные речевые звуки в сочетании с экстатичным фри-джазом. Долфи первым из флейтистов вышел за рамки бибопа; в значительной мере благодаря ему бас-кларнет стал одним из солирующих инструментов в джазе.
Ударник Элвин Джонс (1927–2004) больше всего известен своим участием в классическом квартете Джона Колтрейна (1960–1965), но также был выдающимся сольным исполнителем, сблизившим хард-боп и авангардную музыку.
Стив Райх одним из первых стал пользоваться техникой постепенного фазового сдвига в качестве композиционной основы произведения. (Фазировка – композиционная техника, при которой одна и та же музыкальная фраза исполняется на двух инструментах в двух разных, но постоянных темпах. Таким образом, инструменты постепенно выходят из унисона, сначала создавая небольшое эхо, затем сложный звенящий эффект, и в итоге через раздвоение и эхо возвращаются обратно к унисону.)
См. интервью с Карлхайнцем Штокхаузеном (выше).
Лучано Берио (1925–2003) – итальянский композитор. В 1960-х годах он преподавал в Тэнглвудском музыкальном центре, на летних Дартингтонских и Дармштадтских курсах, в Гарварде, Джульярдской школе и колледже Миллс (г. Окленд, штат Калифорния), где вместе с Дариюсом Мийо и Мортоном Суботником в 1963 году создал группу «Mills Performing Group». В 1955 году совместно с Бруно Мадернаон основал первую студию электронной музыки в Италии и в 1987 году музыкальный исследовательский центр «TempoReale» в Милане. Он также стал автором ряда телепередач, нацеленных на популяризацию современной музыки в Италии. Берио исследовал возможности звука, в первую очередь, голоса часто совместно со своей женой, американской певицей (меццо-сопрано) Кэти Бербериан (1928–1983), владевшей широчайшими техниками пения и обладавшей тонким слухом. Ярким примером их сотрудничества служит композиция «Sequenza III для сольного голоса» (1963), в которой в течение семи с половиной минут отражены 44 эмоциональных состояния через традиционное пение, кашель, вздохи, рыдания и звук, который Берио называл «девушка-птица» («girl-bird»). В качестве основы произведения для магнитной пленки «Оммаж Джойсу» / «Omaggio a Joyce» (1958) использована запись голоса Бербериан. При создании другого важного сочинения, «Sinfonia» (1969), Берио использовал принципы цитации и коллажа.
Артур (Арт) Мерфи (1942–2006) – один из основателей ансамбля Стива Райха (с Джоном Гибсоном), ключевая фигура в развитии минималистской музыки. Также он играл с Филипом Глассом и Генри Флинтом. Во время учебы в Джульярдской школе Мерфи работал с Холлом Овертоном (1920–1972, американский композитор, джазовый пианист и преподаватель) над организацией концерта биг-бэнда Телониуса Монка в Нью-Йорке в 1963 году.
«Пещера» / «The Cave» (1990–1993) – опера с участием ансамбля Стива Райха (дирижер Пол Хильер), поставленная в соавторстве с писательницей и видеохудожницей Берил Коро, женой Стива Райха. В центре сюжета оперы – единственное в мире место поклонения одновременно иудеев и мусульман, храм в Хевроне, известный как Пещера праотцев, где похоронены Авраам и его потомки.
«Разные поезда» / «Different Trains» – произведение с элементами акустической и магнитофонной музыки, основанное на детских воспоминаниях Райха о поездках на поездах от его матери в Лос-Анджелесе к отцу в Нью-Йорк. Райх также использовал в композиции винтажные записи звуков поездов 1930-1940-х годов, добавив трагическую отсылку к поездам, на которых евреев перевозили в нацистские концентрационные лагеря.
«Пещера» / «The Cave» (1990–1993) – опера с участием ансамбля Стива Райха (дирижер Пол Хильер), поставленная в соавторстве с писательницей и видеохудожницей Берил Коро, женой Стива Райха. В центре сюжета оперы – единственное в мире место поклонения одновременно иудеев и мусульман, храм в Хевроне, известный как Пещера праотцев, где похоронены Авраам и его потомки.
Интервью взято Сетом Колтером Уоллсом, «Стив Райх о Пулитцеровской премии за “Двойной секстет”» / «Steve Reich on Winning the Pulitzer for Double Sextet», интернет-издание «The Daily Beast», 24 апреля 2009.
Пол Саймон (р. 1941, Нью-Джерси) – один из самых выдающихся авторов песен второй половины XX века. Он написал большинство песен дуэта «Simon & Garfunkel», участником которого был, в том числе «Mrs. Robinson» и «Bridge Over Troubled Water». Песни Саймона обладают не только высокой стилистической и литературной ценностью, но и запоминающимися мелодиями и отражают проблемы и сомнения поколения 1960-х годов. (MarkDeming, http://www.allmusic.com/artist/paulsimon-mn0000031685/biography.) Марк Стюарт, один из основателей группы «Bang on a Can All-Stars» и член ансамбля «Steve Reich & Musicians», стал музыкальным директором Пола Саймона в 1998 году.
Йоко Оно и Стефан Вольпе (1902–1972) были знакомы с конца 1950-х годов. Вольпе был немецким композитором. Пройдя обучение у музыканта и композитора Феруччио Бузони, он позже учился в Баухаусе и сблизился с дадаистами. В ранних работах – с 1929 по 1933 год – он пользовался 12-тоновой техникой Арнольда Шенберга, после чего его музыка развивалась параллельно с его участием в антифашистском движении. Он писал композиции с элементами джаза и популярной музыки для агитационных трупп, объединений рабочих, коммунистического театра и танцевальных ансамблей. Став более доступной и понятной на эмоциональном уровне, его музыка осталась сложной и детально проработанной по структуре.
К ветвям интерактивной инсталляции Йоко Оно «Дерево желаний» / «Wish Tree» зрители привязывают листки со своими личными желаниями (больше информации на сайте: www.imaginepeacetower.com).
Эбби Хоффман (1936–1989) и Джерри Рубин (1938–1994) – политические и социальные активисты, предводители антивоенного движения в 1960-х и 1970-х годах, известные, в частности, своей деятельностью в рамках Международной партии молодежи. Оба вошли в Чикагскую семерку, обвиненную в заговоре и организации беспорядков в Чикаго во время акции против войны во Вьетнаме.
«Грузовой поезд» содержит отсылку к событиям 1987 года, когда группа мексиканских эмигрантов пыталась нелегально пересечь границу США в вагоне грузового поезда. Поезд в итоге был брошен среди пустыни, и эмигранты, запертые в вагоне, погибли. (Прим. пер.)
Fred Kaplan. 1959: The Year Everything Changed. Ed. «John Wiley & Sons», Hoboken, New Jersey, 2009.
Дюк Эллингтон (1899–1974) – знаменитый джазовый композитор и руководитель биг-бэнда.
Стэн Брекидж (1933–2003) известный режиссер экспериментального несюжетного кино, работавший с различными форматами и техниками, такими как съемка ручной камерой, нанесение рисунков и царапин непосредственно на пленку, быстрая смена кадра, непрерывная съемка, коллаж и многократная экспозиция. Сам Брэкидж называл свои абстрактные фильмы «визуализацией мысли в движении», визуальным воплощением мыслительного процесса.
Одна из основателей Танцевального театра Джадсона (1962) и лейбла «Experimental Intermedia Foundation», Элейн Саммерс внесла большой вклад в развитие танцевального кино. Фил Ниблок начал с ней работать в 1965 году и в 1985 году стал директором «Experimental Intermedia Foundation» в Нью-Йорке.
Среди танцоров, которых снимал Фил Ниблок, были Элейн Саммерс, Ивонна Райнер, Мередит Монк, Тина Кролл, Кароли Шниманн и Лусинда Чайлдс. Из этих опытов в итоге выросла культовая серия «Шесть фильмов» / «Six Films» [1966–1969], созданная совместно с Максом Нойхаусом, и фильм «Магическое солнце» / «The Magic Sun» с Саном Ра и его оркестром «Solar Arkestra» (Mathieu Copeland: Nothin to advertise, just a text on the art of Phill Niblock / Phill Niblock: Working Title, ed. Phill Niblock and Yvan Etienne. Ed. «Les presses du réel», Dijon, 2013, P. 105).
Макс Нойхаус (1939–2009) играл в «энвайронментах» одновременно роль исполнители и композитора. В 1960-х годах. он был перкуссионистом и интерпретатором современной музыки, а в дальнейшем одним из первых начал создавать звуковые инсталляции и работать над «внедрением» музыки в сферу изобразительного искусства. Не имея ни начала, ни конца, его произведения звучали «скорее в пространстве, нежели во времени». Нойхаус стремился создать иное восприятие пространства, в котором находились его инсталляции, чаще всего – музеев. Больше информации на сайте: www.max-neuhaus.info.
В «Энвайронменты» / «Environments» входили два фильма: один о танцовщице Энн Дэнофф, другой о Максе Нойхаусе; оба сопровождались их выступлениями.
Сьюзен Стенджер, член группы «Band of Susans», исполняет произведения Фила Ниблока на его концертах.
Фил Ниблок, «Движение работающих людей» / «The Movement of People Working», 20 января – 10 марта 2007 годах в галерее «Sketch» в Лондоне. Под кураторством Мэтью Копленда. Концерт музыки Ниблока в исполнении басистки/флейтистки Сьюзен Стенджер и гитариста Роберта Посса. Больше информации на сайте: www.mathieucopeland.net.
См. интервью со Стивом Райхом (выше).
Мортон Фельдман (1926–1987) – американский композитор, один из основоположников «неопределенной» музыки, которую затем развили композиторы нью-йоркской школы, в т. ч. Джон Кейдж, Кристиан Вульф и Эрл Браун. Работам Фельдмана свойственны нотационные нововведения, целью которых было добиться характерного звучания: «свободные, парящие ритмы; слегка размытые оттенки нот; тихая, постепенно нарастающая музыка; повторяющиеся ассиметричные рисунки».
Том Джонсон в интервью для Марка Синкера, «Phill Niblock: Din Locator», журнал «The Wire», № 124, London, 1994.
Седрик Прайс (1934–2003) – прогрессивный британский архитектор, приверженец идеи непостоянства в городском устройстве. Он рассматривал время как четвертое измерение наряду с длиной, шириной и высотой. Среди его проектов известен «Potteries Thinkbelt» – проект радикального пересмотра базовой концепции университета как экономического катализатора с мобильными учебными студиями, передвигающимися по рельсам. Под влиянием его работы была создана английская авангардная группа архитекторов «Archigram», которые занимались разработкой гипотетических проектов футуристической архитектуры, не претендовавших на реализацию.
Phill Niblock: Working Title, ed. Phill Niblock and Yvan Etienne. Ed. «Les presses du réel», Dijon, 2013.
Выставка была отменена в связи с финансовыми трудностями. Ретроспективная выставка под названием «Ничего, кроме работы» / «Nothin' but working» в итоге все же состоялась в Лозанне в 2013 году в Елисейском музее фотографии и центре современного искусства «Circuit».
Книга «Год со вздутым аппендиксом» / «A Year with Swollen Appendices» была напечатана издательством «Faber & Faber» в 1996 году, разделенная на две части. Первая часть – это дневниковые записи за 1995 год, а вторая, «вздутый аппендикс», – сборник эссе, рассказов и писем.
Рой Аскотт (р. 1934, Бат, Англия) – британский художник и теоретик кибернетики и телематики. В своих трудах он исследовал влияние цифровых технологий и сетей телекоммуникаций на сознание. Он редактор и основатель исследовательского журнала «Telechnoetic Art», почетный редактор журнала «Leonardo Journal» и автор книг, в частности: «Телематический охват: Перспективные теории искусства, технологий и сознания» / «Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology and Consciousness» (Ed. «UCP», 2003) и текста «Устройство перемен» / «Construction of Change» (1964). Его революционный «нулевой курс» («Groundcourse») – что подразумевает принцип обучения «с нуля» – в школах искусств Ипсвич и Илинг стал знаковой нетрадиционной методикой преподавания искусств, основанной на стимуляции сознания через практику определенного поведения, игры и матрицы, позволявшие иначе взглянуть на стереотипы и установленные нормы.
Дэвид Бирн (р. 1952, Думбартон, Шотландия) – основатель и главный автор песен американской группы «Talking Heads», существовавшей с 1975 по 1991 год.
Корнелиус Кардью (1936–1981) – английский композитор экспериментальной музыки, графический дизайнер и активный приверженец марксизма-ленинизма; один из основателей «Scratch Orchestra» (1969–1974), экспериментального концертного ансамбля, к которому мог присоединиться любой желающий. Ансамбль использовал графические партитуры вместо традиционных нотных записей и делал акцент на импровизации.
С 1958 по 1960 год. Кардью был ассистентом Штокхаузена в Студии электронной музыки в Кельне и работал над композиционным планом партитуры «Carré», крупной симфонии Штокхаузена для четырех оркестров и четырех хоров.
Корнелиус Кардью (1936–1981) – английский композитор-экспериментатор. Среди его главных работ – «Великое учение» / «The Great Learning», серия из семи «параграфов» из трудов Конфуция, написанная для большой группы исполнителей, как обладающих специальной подготовкой, так и не имеющих ее. В произведении присутствуют технически крайне сложные сольные партии, записанные в традиционной нотации, текстовые вставки и инструкции в прозе, а также музыка в графической нотации. Написанные под влиянием конфуцианской философии и актуальной социальной ситуации, инструкции давали интерпретаторам большую свободу и позволяли каждому участнику внести свой заметный вклад в конечный вид произведения.
Гордон Паск (1928–1996) – английский кибернетик и психолог, внесший значительный вклад в изучение и развитие кибернетики, образовательной психологии и технологий и экспериментальной эпистемологии. Он возглавлял комитет по кибернетике проекта Седрика Прайса «Fun Palace» и исследовал, каким образом человеческий организм адаптируется к окружающей среде и взаимодействует с другими организмами посредством языка.
Седрик Прайс (1934–2003) – прогрессивный британский архитектор, приверженец идеи непостоянства в городском устройстве. Он рассматривал время как четвертое измерение наряду с длиной, шириной и высотой. Среди его проектов известен «Potteries Thinkbelt» – проект радикального пересмотра базовой концепции университета как экономического катализатора с мобильными учебными студиями, передвигающимися по рельсам. Под влиянием его работы была создана английская авангардная группа архитекторов «Archigram», которые занимались разработкой гипотетических проектов футуристической архитектуры, не претендовавших на реализацию.
См. интервью со Стивом Райхом (выше).
Игра «Жизнь» – это игра без участия игрока; клеточный автомат, состоящий из размеченной плоскости. Разработана британским математиком Джоном Конвеем (р. 1937).
«Koan» – программное обеспечение для создания генеративной музыки, разработанное компанией SSEYO. Генеративная музыка – это постоянно изменяющаяся неповторяемая музыка, случайным образом сгенерированная системой. Термин приобрел широкое употребление после выхода записи Брайана Ино «Generative Music I» (1996).
Питер Гэбриэл (р. 1950) – член и основатель группы «Genesis».
Лори Андерсон (р. 1947) – американская исполнительница экспериментальной музыки и артистка перформанса. Изобрела ряд устройств, которыми пользовалась во время записи и перформансов (например, скрипичный смычок с магнитной пленкой вместо конского волоса).
См. интервью с Брайаном Ино (выше).
Дерек Бейли (1930–2005) – английский гитарист и значимая фигура движения свободной импровизации. Его манере свойственны крайняя отрывистость и широкие интервалы, аритмичность и атональность, создающие не поддающийся определению стиль свободной импровизации.
Джон Зорн (р. 1953, Нью-Йорк) – плодовитый композитор, аранжировщик, продюсер, саксофонист и мультиинструменталист.
Он работал в различных стилях, в т. ч. джаз, хакдкор-панк, классика, клезмер, а также писал музыку для мультфильмов и кино в жанре нуар и занимался импровизацией, утверждая, что все его «стили музыки органично связаны между собой». Он написал саундтреки к ряду фильмов, а благодаря его звукозаписывающему лейблу «Tzadik» многие исполнители обрели широкую известность.
Маурисио Кагель (1931–2008) – немецко-аргентинский композитор. Для него особый интерес представляла театральная составляющая современных концертов музыки. Он писал инструкции по сценическому поведению для исполнителей («Szenisches Konzertstück», 1970). В 1970-х годах он предложил новый взгляд на классические музыкальные традиции (Баха, Бетховена, Брамса), соединив их с популярными музыкальными формами. (Официальный веб-сайт: www.mauricio-kagel.com.)
В интервью 1996 года Уолтер Хопс рассказал Хансу Ульриху Обристу, что Дюшан научил его главному правилу кураторства: при организации выставки «работы не должны мешать» зрителю. (Вступление Ханса Ульриха Обриста к интервью с Уолтером Хоппсом в книге «Краткая история кураторства». Пер. с англ. А. Зайцевой. «Ад Маргинем Пресс», Москва, 2013. Прежде опубликовано в статье «Walter Hopps, Hopps, Hopps», журнал «Artforum», New York, December, 1996.)
Хайнер Геббельс (р. 1952, Нойштадт, Германия) – немецкий композитор экспериментальной музыки и дирижер. Он также был автором музыки для театральных и балетных постановок и кино и в середине 1980-х начал писать и режиссировать собственные пьесы по мотивам текстов Хайнера Мюллера. Его работы в области музыки и театра неоднократно удостаивались европейских наград. (Джейсон Анкени / Jason Ankeny, http://www.allmusic.com/artist/heinergoebbels-mn0001327668/biography.)
«Semiotext(e)» – американское издательство, популяризировавшее среди американской аудитории французские философские теории, издает одноименный журнал. Его основал французский философ Сильвер Лотрингер. Редакторами издательства были Сильвер Лотрингер, Крис Краус и Хеди эль Кхолти.
Эрману Вьянна – бразильский антрополог и писатель, автор книги: «Загадка самбы: популярная музыка и национальная самоидентификация в Бразилии». (The Mystery os Samba: Popular Music and National Identity in Brazil. Ed. «University of North Carolina Press», North Carolina, 1999.)
Во время презентации в Башне Монпарнас в Париже «Kraftwerk» представили прессе свой новый альбом «The Man Machine» коротким 5-минутным концертом.
Максим Шмитт – близкий друг Ральфа Хюттера; сотрудничал с «Kraftwerk» с начала 1970-х. Он был соавтором некоторых текстов песен, в том числе на альбоме «Tour de France».
Интервью, взятое Гэри Кроули в сентябре 2003 года для «Би-би-си» (Лондон): www.bbc.co.uk/london/entertainment/music/kraftwerk_interview.shtml.
Флориан Шнайдер – один из двух основателей «Kraftwerk». С Ральфом Хюттером он познакомился в 1968 году во время учебы в музыкальном колледже Роберта Шумана в Дюссельдорфе, и вместе они были участниками импровизационного ансамбля «Organization», игравшего в стиле «краут-рок» – жанре электронной рок-музыки, зародившемся в Западной Германии в конце 1960-х годов.
Эмиль Шульт (р. 1946, Дессау, Германия) тоже был студентом Дитера Рота и Герхарда Рихтера в Дюссельдорфской академии искусств в конце 1960-х годов. Там он познакомился с основателями «Kraftwerk», для которых впоследствии писал тексты и разрабатывал графические материалы (больше информации на сайте: www.emilschult.eu).
Квартет Баланеску – авангардный струнный квартет, основанный в 1987 году. Александром Баланеску. Квартет исполнил несколько сложных кавер-версий на песни «Kraftwerk» с альбома «Possessed» (1992).
Вокодер – устройство синтеза речи на основе закодированных параметров.
В апреле 1957 года на Конвенции Американской федерации искусства (Хьюстон, штат Техас) Марсель Дюшан зачитал свой доклад «Творческий процесс» / «Creative Act», в котором высказал свою точку зрения о том, что «в творческом процессе участвует не только автор; произведение соприкасается с внешним миром через зрителя, который расшифровывает его, истолковывает его внутреннее содержание и, таким образом, вносит свой вклад в творческий процесс». В 1958 году в сочинении «Duchamp du Signe» Марсель Дюшан развил эту мысль и пришел к выводу, что «картину создает зритель» (см.: М. Duchamp. Duchamp du Signe. Ed. «Flammarion», Paris, 1975). Здесь Ханс Ульрих Обрист объединяет эту популярную концепцию с заявлением художницы Доминик Гонсалес- Ферстер, по-своему интерпретировавшей работы Дюшана.
Фаду – музыкальная форма, которой свойственны печальные мелодии и тексты с характерным оттенком смирения, обреченности и меланхолии (который примерно можно описать словом «saudade», «тоска»).
Каэтану Велозу. Тропическая правда: История музыки и революции в Бразилии / Caetano Veloso. Tropical Truth: A Story Of Music And Revolution In Brazil, trans. Isabel de Sena. Ed. «Knopf», New York, 2002.
Глаубер Роша (1939–1981) – влиятельный бразильский режиссер, актер, журналист и полемист. Наиболее известен его фильм «Deus e o Diabo na Terra do Sol» («Черный бог, белый дьявол», 1964), главный фильм «нового кино» – новой волны бразильского кинематографа.
Жуан Жилберту (р. 1931, Баия) известен как основоположник босановы в середине 1950-х годов. Певец, автор песен и гитарист. Он перепел песни Антониу Карлуса Жобима и Винисиуса де Морайса, в частности «The Girl from Ipanema» (записана Жилберту в 1962). Хотя Жобим, джазовый музыкант, заложил основу нового жанра, Жилберту придал песням новый ритм и спел их мягким, проникновенным голосом, который стал характерен для жанра.
Жилберту Жил (р. 1942, Сальвадор, Баия) – бразильский певец, гитарист и автор песен. Он начал карьеру как исполнитель босановы, после чего перешел к музыкальному творчеству, отражавшему его политические и социальные взгляды. Он стал ключевой фигурой в движении тропикализма в 1960-х годах вместе с Каэтану Велозу и первопроходцем жанра «популярной бразильской музыки» (MPB), смеси традиционных и урбанистических мотивов с современными рок- и фолк-жанрами со свойственными им инструментами. В 1980-х годах он сотрудничал с регги-музыкантом Джимми Клиффом и популяризировал регги в Бразилии, исполнив португальскую версию песни Боба Марли и «The Wailer's» «No Woman, No Cry», которая имела огромный успех. Один из его самых известных альбомов – «Luar» (1981) – пропитан духом свободы, подобным настроению песни «Odara» Каэтану Велозу, написанной после падения диктатуры. Жилберту Жил с 2003 по 2008 год был министром культуры Бразилии. Официальный сайт: www.gilbertogil.com.br.
См. интервью с Арто Линдсеем (выше).
Аугусто де Кампос родился в 1931 году в Сан-Паулу. Вместе с его братом Арольдо они основали движение конкретной поэзии в Бразилии. Также был переводчиком, музыкальным критиком и художником.
Велозу положил на музыку два стихотворения Аугусто де Кампоса – «dias dias dias» и «pulsar».
Hans Ulrich Obrist. Entrevistas. Vol.2. Ed. «Editora Cobogó», Rio de Janeiro, 2009.
Фредерико Гарсия Лорка (1898–1936) – испанский поэт и драматург, а также художник, пианист и композитор. В своих стихах и пьесах Лорка чутко передает речь, музыку и обычаи сельской жизни Андалусии и превращает их в «универсальное пространство, где поэт исследует глубочайшие переживания человеческого сердца, страсть, любовь и смерть, тайну самосознания и чудо творческого созидания» (www.garcia-lorca.org).
В апреле 1957 года на Конвенции Американской федерации искусства (Хьюстон, штат Техас) Марсель Дюшан зачитал свой доклад «Творческий процесс» / «Creative Act», в котором высказал свою точку зрения о том, что «в творческом процессе участвует не только автор; произведение соприкасается с внешним миром через зрителя, который расшифровывает его, истолковывает его внутреннее содержание и, таким образом, вносит свой вклад в творческий процесс». В 1958 году в сочинении «Duchamp du Signe» Марсель Дюшан развил эту мысль и пришел к выводу, что «картину создает зритель» (см.: М. Duchamp. Duchamp du Signe. Ed. «Flammarion», Paris, 1975). Здесь Ханс Ульрих Обрист объединяет эту популярную концепцию с заявлением художницы Доминик Гонсалес-Ферстер, по-своему интерпретировавшей работы Дюшана.
См. интервью с Арто Линдсеем (выше).
Хулио Медаглия (р. 1938, Сан-Паулу) – композитор, обладатель международных премий, автор музыки к более чем 100 фильмам и вдохновитель движения тропикализма. Занимался аранжировкой джазовых композиций и песен жанра популярной бразильской музыки (MPB).